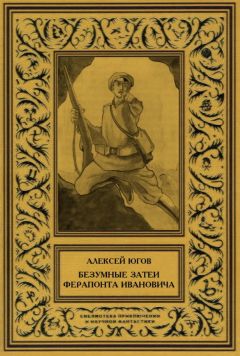— Вы знаете, это ужасно, что делается: нас совсем оттеснили!.. Мама страшно волнуется. Александр — в городе: его не отпустили... Я так обрадовалась, когда вас увидела... может быть...
— Увы!.. — сказал прапорщик с неловкой улыбкой, которая должна была обозначать одновременно и отказ, и сожаление, — если бы на полчаса, только на полчаса раньше!.. А теперь... денщика я командировал в город, а сам... мы сейчас... меня вызывают в штаб...
Оба они старались не смотреть друг на друга. Долго молчали и обоим было как-то неловко расстаться.
— Боже мой... боже мой!.. Что же делать?! — словно про себя говорила она.
— Холодно! — сказал прапорщик, передернувшись, и пояснил для чего-то, как будто она не видела: — Я ведь в одной гимнастерке к вам выскочил... Ну, прощайте! — сказал он, беря ее руку и на этот раз целуя выше перчатки. — Надеюсь увидеть вас во Владивостоке, — и, не дожидаясь даже, когда она уйдет, он повернулся к ней спиной и, ухватившись за скобку косяка, легко прыгнул в теплушку...
Женщина постояла еще немного и пошла по направлению к станции.
Низко (вот-вот, кажется, заденешь головой) висят над перроном огромные станционные часы. Большая стрелка, похожая на меч, долго остается на месте и вдруг делает прыжок.
Два офицера стоят, прислонившись к стене вокзала, и смотрят спокойно, как мечутся по перрону люди. Один из них, помоложе, говорит:
— Знаешь, странно все-таки делается: ведь вот за то время, пока эта стрелка едва-едва успела оползти циферблат, фронт откатился еще на шестьдесят верст!.. Ты сводку читал?
— Да, — говорит другой, не склонный, видимо, к философствованию. — Бегут...
Мимо них с шумом и звяканьем проходят два анненковца, волоча длинные шашки. На рукавах у них — череп и скрещенные кости.
— Денатурат! — громко говорит старший из офицеров — кавалерист, судя по шпорам и длиннополой шинели с разрезом от самого пояса. Собеседник не понимает его, и тогда он глазами показывает на мрачную эмблему анненковцев. Оба хохочут.
Один из анненковцев оглядывается, но, должно быть, они очень спешат, потому что оба скрываются в вокзале.
— Тоже, поди, думают, что — кавалерия! — не унимается офицер. Не кавалерия, по-моему, а цыганская свадьба... Пришли бы они к нам в русско-чешский, мы бы их поучили!..
Станция, словно шелухой семечек, засорена народом и скарбом. А «ветка» каждые двадцать минут привозит из города все новых и новых людей. Рядом с веткой от самого города протянулся обоз с беженской рухлядью.
На восток от вокзала далеко раскинулся выросший за каких-нибудь две недели город теплушек. Когда-то вся Русь была кондовая, избяная, а после — пришел четырнадцатый год, и сделалась вагонная, теплушечная.
Здесь, впрочем, и в теплушках чувствуют себя прочно, оседло. На первых двух-трех линиях заметно еще некоторое движение: приходят и уходят поезда, бичуют воздух маневровые паровозы, звякают тарелки буферов. А дальше, как, впрочем, и полагается на окраинных улицах города, движение чуть заметно и, наконец, совсем затихает. Колеса на четверть засыпаны снегом. Чуть не у каждой теплушки — труба, из трубы идет дым. Белеют повсюду переплеты заново сделанных дверей и рам. Идет заготовка дров. У большинства теплушек до самой земли — прочные лесенки, можно даже посидеть на крылечке. Пожалуй, если здраво рассуждать, то колеса в этом городе давно уже лишние. Без них можно было бы завалинки сделать, из снега хотя бы: а го все-таки, как ни обивай изнутри теплушку коврами и кошмами, а снизу-то поддувает. Однако, где там! Хоть и крепко, по-домашнему, все устроились — а в колеса все-таки верят, верят во Владивосток и Иркутск. Поэтому каждый день квартальный надзиратель, упорно именуемый, однако, комендантом эшелона, ходит к коменданту станции узнавать, скоро ли их квартал тронется в Иркутск.
И случается, что нехотя-нехотя подойдет к такому кварталу какой-нибудь старичок-паровоз, тихонько покрякивая, толканет, слоено силенку пробует, повозится там чего-то и глядишь — потащил ведь со скрипом и стоном застоявшиеся теплушки! Поплыли лесенки, срезая по дороге кучи снега... И подымается суматоха! Ликвидируются дровяные заготовки. Сбегаются отовсюду жители, видевшие, как стронулись их дома, и выскакивают на крылечко встревоженные женщины, у которых мужчины — эти извечные добытчики всякой снеди и топлива — странствуют в это время где-нибудь по вокзалу, а то и в городе. Лица женщин выражают мучительные переживания: остаться с ним или уехать с вещами?!..
Так бывало с каждым эшелоном и не однажды. И каждый раз кончалось, что состав только загоняли еще дальше, чтобы освободить путь для военных эшелонов. Наконец, все к этому очень привыкли и не только безбоязненно стали уходить на вокзал, но многие даже и ночевали-то в городе. Явилась уверенность, что положение устойчивое. Некоторые предлагали даже перенумеровать по-городскому все теплушки, а на головных и хвостовых прибить дощечки с наименованием улиц: Лермонтовская, примерно, Потанинская, Адмиральская. Сплетни, кумовство и заимодавство накрепко связали между собою отдельные теплушки и эшелоны...
Был, однако, в самом «устойчивом» углу этого юрода один эшелон, по-видимому, военный, с которым не только не удалось завязать какие-либо отношения, но к которому даже приблизиться было нельзя, потому что по обе стороны — по два часовых. Думали сначала, что там снаряды, но скоро увидели, что нет. Ибо, хотя и закрыты все теплушки на замки и железные створки окон захлопнуты наглухо, но у каждой теплушки — труба, оттуда — дым и, кроме того, сажен за сто от эшелона так силен становится солдатский запах, что ясно становится, что в теплушках — никак не меньше батальона. Днем теплушки не открываются вовсе. Стало быть, люди сидят там в полной темноте, хотя, по-видимому, это мало их смущает, так как все время доносятся оттуда — смех, крики, звуки гармошки и топот.
Уж, во всяком случае, там не арестанты: слишком весело себя ведут. Вот даже к одной из теплушек подходит часовой и стучит прикладом:
— Эй, вы, чалдоны желторотые! Тише. Фельдфебель придет...
Ему отвечают руганью и шутками:
— Ге-ге!.. Пускай приходит!..
— Как же! — придет он, дожидайся! Днем-то, небось, не одна собака к нам не заглянет!..
— Чо ему здесь делать?! Иголки-то ешшо рано расшвыривать. Эти-то не все собрали!..
— Придет, дак мы его тут в потемках-то петушком завяжем, — не узнат кто!..
— Ну-ну! Вы ее больно-то! — говорит часовой и отходит к другой теплушке. Здесь довольно тихо, но, приложившись к щели между дверью и косяком, он остается в таком положении довольно долго. В теплушке идет разговор, беспорядочный, вразброд, как всегда, где соберется много праздного народу.
— Эх, мамаша! — слышится чей-то молодой и озорной, изнывающий от скуки голос. — Конюхов! ты чо — библею читашь! Умрет он, братцы, без библеи! А мне бы хоть одним глазом на баб взглянуть! Ох, и много их, поди, на станции!.. Чую, что много!..
— Ну, язви их! — дожили! Зашшитники! — людям показать стыдно... Вон дак образцовый батальон!..
— Да, господин взводный, долго ли чо нас держать-то будут?! Хооъ бы сказали, за что! А то сидишь, как кобель на цепе! Иголки каки-то удумали! Начисто обалдели!..
— Кто обалдел?!..
— Да хоть бы и капитан!
— Ну, ты говори-говори, да откусывай!.. — отвечает, по-видимому, взводный.
— Эй! вот что, ребятишки: кто будет в очко?
— Ишь, стерва, в очко! Да ты и при свете-то обдуешь!..
— Эй, Конюхов! ты ить начетчик — погадай, слышь, на библее, пошто нас затырили?..
— Библия тебе не мешат, дак ты ее и не затрагивай, а кто затырил, дак у того и спрашивай!..
— А вот что, ребята, — вступает чей-то новый голос, — офицера-то в потемках же сидят а ли на воле?
— Ну, дак как же! Наверно, тебе поручик Лазарев усидит! Он, поди, всех баб в городе освашшил!
— А капитан-от Яхонтов куды делся?
— А его, слышь, и в ешалоне нету. Хрен его знат. Наделал делов, а сам — на сторону!..
— А я дак, ребята, думаю, — глубокомысленно сказал кто-то, — что нас для восстания скрывают.
Несколько времени все молчат, видимо, пораженные неожиданностью догадки. Потом кто-то говорит презрительно:
— Уткнул пальцем!.. Так тебе бы и дали орать да на гармошке наяривать!.. А, скажем, для чего тогда в потемках-то держать?.. Никого тут не восстание, а так — дурость кака-то!..
— Ну их к черту! Давай, ребятишки, споем ли чо ли!..
— В неволе сижу...
3
Офицер и денщикА тот, о ком говорили солдаты, что он «наделал делов, а сам — на сторону» — капитан егерского особого батальона Яхонтов уж целый месяц не выходил из своей комнаты, в которой было так же темно, как в теплушках его батальона. В первое время очень беспокоили разные знакомые, главным образом, женщины, прибегавшие попроведать капитана, но скоро его денщик отвадил всех посетителей. Он никого дальше кухни не пропускал и каждому старательно объяснял, что у капитана заболели глаза, и ему велено сидеть в темной комнате и никуда не выходить. Квартира у Яхонтова была совершенно отдельная — из двух небольших комнат и кухни, в которой, однако, жил денщик и ничего не готовилось, так как Яхонтов получал обеды из ресторана.