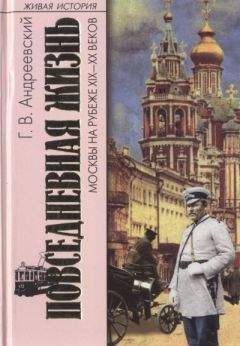Возведение больших каменных зданий потребовало привлечения специалистов, в данном случае, каменщиков. Заниматься новым промыслом стали крестьяне Московской и окружавших её губерний. Каменщики носили белые фартуки и были, как и они, то белыми от цементной пыли, то красными — от пыли кирпичной. Стекались рабочие в Москву весной, к началу строительного сезона, где искали подрядчиков и строительные конторы. Старались устроиться в артель, где жизнь была получше, а, главное, заработки повыше. В день здесь можно было заработать 2 рубля 50 копеек, не то что у подрядчика. Тот всё время норовил обмануть рабочего: недоплатить ему, засчитать прогул, оштрафовать и пр. Работая у подрядчиков, каменщики жили тут же, на стройке, в шалашах, покрытых тёсом. Работа их была небезопасной и не только потому, что они могли упасть с высоты, но и потому, что не всегда строительство больших зданий завершалось успешно. 11 октября 1888 года, на углу Кузнецкого Моста и Неглинной улицы рухнул дом Московского купеческого общества, строительство которого подходило к концу. Одиннадцать рабочих при этом погибли и столько же было изувечено. Причиной трагедии явилось использование строителями плохого кирпича. Исполняющий обязанности городского головы признал, что городское управление следило лишь за сроками строительства и совсем не следило за его качеством. За этим должны были наблюдать частные архитекторы, которым домовладельцы поручали возведение зданий. Городское же управление брать на себя такую обузу не пожелало, поскольку это потребовало бы от него больших затрат. Вопрос так и остался открытым и никого не наказали.
Большое строительство, увеличение скоростей на транспорте, повлекли за собой немало катастроф. Рушились дома, сходили с рельсов и летели под откос поезда, возникали большие пожары и пр. Всё это дало основание петербургскому «Новому времени» в 1909 году заявить о том, что «…в области всевозможных происшествий мы можем затмить не только Запад, но и заморские страны… Происшествия, — писала газета, — наша область. Тут мы царим безраздельно и с гордостью можем себя провозгласить „Царями катастроф“».
«Исторические» происшествия, даже такие мрачные, остаются в памяти народа, увековечиваются не только в памятниках, но и в названиях улиц и переулков. Там, где находится улица Божедомка, во времена Ивана Грозного стояли так называемые «убогие дома», которые называли ещё «кудельницами», «жальниками» и «гноищами». Это были сараи с вырытыми ямами — могилами. В сараи эти свозили тела убогих, «странных» людей, а проще говоря, бродяг, людей погибших внезапно (скоропостижно), а также убитых. Ямы рыли летом, так как зимой мёрзлую землю нечем было долбить. Тела убитых и замёрзших привозили в Земский приказ, где они выставлялись на три-четыре дня. Если родственников и знакомых не находилось, трупы отвозили в «божий дом», то есть в большое подземелье со сводами. Там складывали по 100 и по 200 трупов, которых весною отпевали священники, засыпав землёю.
Сюда, в эти «скудельцы», имевшие приюты, подкидывали незаконнорожденных детей, которых иногда брали к себе бездетные супруги, называя «Богданами». В Семик и в Покров совершался в Москве крестный ход на «убогие домы» для общей там панихиды. Москвичи приносили саваны и рубахи, в которые облачали безвестных покойников.
Местность, прилегающая к Берсеневской набережной Москвы-реки, например, ещё в конце XV века получила название «Садовники». Произошло это после произошедшего там большого пожара, когда огонь через реку перекинулся на Кремль. Тогда при пожаре сгорели великокняжеские дворы, митрополичьи хоромы и другие здания. Во избежание подобных несчастий в будущем великий князь приказал снести все жилые постройки за Москвой-рекой, против Кремля, и устроить там царские сады и луга. Около них, естественно, поселились царские садовники. Образовалась слобода, получившая название «Садовники». При Иване III рядом с царскими садами построили себе дома и бояре. Имя одного из них, Берсена Беклемишева, вошло в название построенной здесь церкви, а потом и набережной, Берсеньевской. Улица Болвановка (ныне Радищевская) получила своё название от урочища «Болвановка», где жили мастера-болванщики, изготавливавшие металлические и другие изделия на деревянных болванах. Чернышёвский переулок, как и многие в Москве, получил название по имени одного из своих домовладельцев, в данном случае графа Чернышёва, первого московского главнокомандующего. Сретенка — по расположенному здесь Сретенскому монастырю. Улицу Лубянку, кстати, на которой теперь и находится монастырь, в старину также называли Сретенкой, так что в названии монастыря нет никакой натяжки. В 1898 году исчез с карт Москвы Дурной переулок Он снова, как и прежде, стал называться Лиховым, а Кривой переулок, что соединял Большой Харитоньевский переулок с Лобковским, назвали Мыльниковым. Москва понемногу избавлялась от забавных, но не украшавших её названий.
В 1899 году на Кузнецком Мосту появились магазины с большими зеркальными окнами в две сажени высотой (это около полутора метров), а Тверскую улицу стало трудно узнать. Здесь тоже выросли большие дома и магазины с зеркальными окнами. А ведь не так давно улица эта кончалась за облупленными Триумфальными воротами, окружёнными торговыми палатками довольно безобразного вида. За ними открывались поле, ипподром и можно было даже увидеть Ваганьковское кладбище. На ипподром, «скачку», как тогда говорили в народе, ходили пешком, через вал, которым был обнесён скаковой круг, и смотрели скачки бесплатно. Постепенно Тверская всё больше и больше завоёвывала себе место первой улицы города. В праздничный день вся она, по обеим сторонам пролегавших по ней рельсов конно-железной дороги, была усеяна народом. Жившие в её домах люди выходили к воротам, садились на скамейки и наблюдали за происходящим. В такие дни даже лавочники, торчавшие у дверей своих лавок, не очень радовались покупателям, отрывавшим их от созерцания улицы. Квартиранты высовывались в окна, а живущие «в задних покоях», куда обыкновенно, как писали тогда в записках на воротах, был «ход через хозяйку», — выходили на улицу. Люди грызли семечки и шли сплошной массой за заставу, в Петровский парк, Зыково, Стрельну, Всесвятское, Петровско-Разумовское, Никольское, Покровское-Глебово… Особенно большое движение на этой улице бывало в дни скачек и бегов. Помимо прохожих улица тогда была запружена экипажами и всадниками.
Все эти шествия, кавалькады, шикарные витрины не мешали располагаться на той же улице и угрюмому забору на углу Газетного переулка (улицы Огарёва), и вонючей помойке у дверей кабака при въезде в Брюсовский переулок, и извозчичьим «колодам» напротив памятника Пушкину…
Но всё-таки многие москвичи жалели старую Москву. Не всякий глаз радовали громады пяти-, шести-, семиэтажек и грохот трамваев. С грустью вспоминали они старые, полудеревенские пейзажи московских окраин, патриархальную старину центра, богобоязненную атмосферу Замоскворечья, где летом пахло жасмином, сиренью и из окон купеческих домов долетал запах деревянного масла или свежезаваренного чая, где трудно было встретить городской экипаж, где стены гостиных украшали портреты хозяина и хозяйки в золочёных рамах, а в мезонине или на антресолях обычно жили барышни.
Вспоминая о жизни в Замоскворечье 1870–1880-х годов, выросшая в купеческой семье В. Н. Харузина писала: «Самовар блестел „как жар“. Чай прикрыт вязаными салфетками… старинное хрустальное блюдо тёмно-красного цвета с белыми прорезами, сухарница железная, лодочкой, покрытая вязаной салфеткой, вазы с вареньем. У каждого места маленькие клеёнчатые кружки, на которые ставят чашку. Пили чай из блюдца… Мама покупала в магазине Генералова на Тверской швейцарский сыр из Швейцарии (нашего швейцарского сыра ещё не было), сухую пастилу палочками, ералаш — смесь из грецких орехов, миндаля, изюма, чернослива и фисташек., коробочки конфет в виде чайницы с изображением китайцев с мелкими конфетами — кофейными зёрнышками с кофейной жидкостью внутри… В булочной Филиппова покупала душистые французские хлебы, мягкие сайки, испечённые на соломе, булки „розового“ и „шафранного“ хлеба, ярко розового, с запахом розового масла и ярко жёлтого, с шафранным вкусом… Два раза в неделю были полотёры. Перед Рождеством и Пасхой и переездом с дачи дом „обметали“… Ставили таз с водой и мочалкой и кусок казанского мыла (татарским или казанским мылом называлось травянистое растение семейства гвоздичных, способное пениться)… Температура в комнатах была ровная, тёплая. Дров не жалели. Стоили они несколько рублей за сажень. Боялись холодного воздуха, считалось опасным входить в комнату с отворённой форточкой. Кухни — вне дома, чтобы не пахло, не было чада. В парадных комнатах прыскали из пульверизатора водой с духами». Ко всему этому можно добавить то, что на воротах купеческих домов в Замоскворечье писались фамилии владельцев, да ещё упомянуть о том, что на улице тогда можно было встретить юную «львицу» в бархатной бурке из ангорских коз, даму, накинувшую на плечи изящный сорти-дебаль на горностае, или женщину в затрапезном[33] платье, в лёгкой драдедамовой кофточке и гарусном платке.