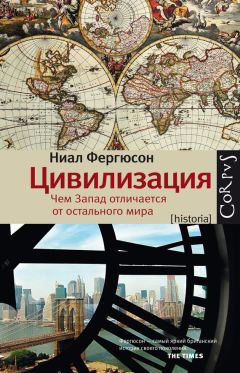Никогда… я не сомневался в том, что ключ к германской политике находится в руках государей и династий, а не у публицистики – в парламенте и прессе – и не у баррикады… Гордиев узел наших германских взаимоотношений… можно разрубить только силой оружия; дело заключается в том, чтобы склонить прусского короля, сознательно или бессознательно, а тем самым прусское войско, к служению национальному делу, независимо от того, что рассматривалось при этом в качестве основной задачи: руководящая роль Пруссии, с борусской точки зрения, или же вопрос об объединении Германии с точки зрения национальной. Обе цели покрывали друг друга… Династии всегда оказывались сильнее прессы и парламентов… Немецкий патриотизм для своего деятельного и энергичного проявления нуждается, как правило, в посредствующем звене в виде чувства приверженности к династии… всякий скорее готов засвидетельствовать свой патриотизм в качестве пруссака, ганноверца, вюртембержца, баварца, гессенца, нежели в качестве немца[542].
Блестящим ходом Бисмарка стала трансформация Германского союза (39 государств), в котором доминировала Австрия, в Германскую империю (25 государств) во главе с Пруссией. Победу Пруссии над Австрией и ее союзниками из Германского союза в 1866 году следует рассматривать не как войну за объединение, а как победу американского Севера над Югом, поскольку множество людей, говоривших на немецком языке, не стали подданными новой Германии. Правда, победа Бисмарка оставалась неполной, пока он не сумел переиграть дома своих оппонентов-либералов. Сначала он добился введения всеобщего избирательного права, лишившего их мест в имперском Рейхстаге, а в 1878 году внес в их ряды раскол во время обсуждения вопроса о свободной торговле. Ценой стало предоставление южным немцам двух сильных блокирующих позиций: ведущей роли католической Партии центра в Рейхстаге и права общего вето южногерманских государств в верхней палате – Бундесрате.
“Если мы хотим, чтобы все осталось по-старому, нужно все поменять” (Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi)[543], – эту строку из исторического романа Джузеппе Томази ди Лампедузы “Гепард” (1958) часто цитируют, желая сказать, что объединение Италии имело неявно консервативный характер. Но национальные государства строились ради чего-то большего, нежели сохранение привилегий обеспокоенных землевладельческих элит Европы. Такие образования, как Италия или Германия, вобравшие в себя множество крошечных государств, предложили их гражданам некоторые компенсации: экономику совсем другого масштаба, сетевые экстерналии, снижение транзакционных издержек, а также более эффективное предоставление ключевых общественных благ наподобие правопорядка, инфраструктуры и здравоохранения. Новые государства наконец смогли сделать безопасными крупные города Европы – рассадники холеры и революции. Снос трущоб, слишком широкие для баррикад бульвары, большие церкви, тенистые парки, стадионы и, прежде всего, увеличение штата полицейских – все это преобразило европейские столицы (не в последнюю очередь Париж, совершенно перестроенный бароном Жоржем Османом для Наполеона III). Все новые государства подновляли фасады, и даже побежденная Австрия не теряла времени: она превратилась в “императорско-королевскую” Австро-Венгрию, лицом которой стала венская Рингштрассе[544]. Но и за этими фасадами не было пусто. Чтобы было удобнее вколачивать национальные языки в молодые головы, строили школы. Чтобы обучать их выпускников защищать отечество, возводили казармы. Чтобы удобнее перебрасывать войска к границе, прокладывали железные дороги (в том числе там, где их доходность выглядела сомнительной). Крестьяне превратились во французов, немцев, итальянцев, сербов – в зависимости от того, где им довелось родиться.
Парадокс заключается в том, что подъем национализма совпал с гомогенизацией моды. Конечно, военные мундиры по-прежнему различались, так что и в пылу сражения можно было отличить пуалю от боша или ростбифа[545]. Тем не менее, увеличение в XIX веке точности и мощности артиллерии, а также изобретение бездымного пороха потребовали перехода от ярких мундиров xviii – XIX веков к незаметной униформе. Англичане оделись в хаки после войны с зулусами (1879). Несколько позднее их примеру последовали американцы и японцы. Русские в 1908 году также выбрали хаки, но серого оттенка. Итальянцы предпочли серо-зеленый, немцы и австрийцы – полевой серый и щучье-серый. На упрощении настаивала и экономика, поскольку численность армий сильно выросла. Война перестала напоминать парад.
Мужчины, не состоящие на военной службе, тоже оставили щегольство. Костюм денди Бо Браммела, жившего в эпоху Регентства, сам по себе являлся упрощением моды xviii века. Позднее в мужском костюме возобладала буржуазная умеренность. Пингвинообразный ньюмаркет, застегивающийся на одну пуговицу (теперь его можно увидеть лишь на претенциозных свадьбах), вытеснил фрак Браммела и двубортный сюртук “принц Альберт”. Жилеты перестали шить из яркого китайского шелка: его заменила черная или серая шерстяная ткань. Бриджи превратились в длинные брюки, а чулки исчезли из виду и к тому же сменились унылыми носками. Рубашки сплошь стали белыми. От воротничков в итоге остались два целлулоидных уголка, подобные цыплячьим крылышкам, стянутые галстуком – обязательно черным. Шляпы – тоже черные – съежились до размеров котелка. Казалось, что мужчины оделись на поминки.
Конечно, женский викторианский костюм был куда сложнее. У пролетариата и оборванцев тоже была своя униформа. Тем не менее унификация одежды в викторианскую эпоху – время подъема национализма – в Европе и далеко за пределами Востока США остается загадкой. “Интернационал” существовал, но лишь на уровне буржуазного дресс-кода. Ответ, как и можно ожидать от индустриальной эпохи, дает техника.
В 1850 году Айзек Меррит Зингер приехал в Бостон, чтобы осмотреть машины, которые собирали в мастерской Орсона Фелпса. Зингер понял, что иглу лучше сделать прямой, а не искривленной, что двигаться она должна вверх-вниз, а не по кругу, и что привод уместнее ножной, а не ручной. Как и Маркс, Зингер был не особенно симпатичным человеком. У него было 24 ребенка от 5 женщин, причем одна начала против Зингера процесс, обвиняя в двоеженстве, и вынудила его бежать из США. Как и Маркс (а также непропорционально много предпринимателей в XIX – XX веках, особенно производителей одежды и косметики), Зингер был евреем. И, подобно Марксу, он изменил мир – в отличие от Маркса, к лучшему.
“И. М. Зингер и К°” (позднее “Производственная компания Зингера”) завершила процесс механизации портновского дела, начатый Джеймсом Харгривсом менее чем за век до этого: теперь шить можно было при помощи машины (революционное значение этого усовершенствования поколение, вряд ли державшее иголку в руках, явно недооценивает). Несомненно, Зингер любил женщин: кто сделал для них больше, чем он? Томительные часы, которые прежде приходилось тратить на то, чтобы подшить юбку, обернулись минутами, а затем и секундами. История швейной машины Зингера отлично иллюстрирует эволюционный характер Промышленной революции. Одно усовершенствование следовало за другим: модель Turtleback (1856) сменил Grasshopper (1858), затем на рынок вышла New Family (1865), а после – электрическая 99 К (1880). К 1900 году в производстве было 40 моделей, а к 1929 году – уже 3 тысячи.
Мало какие из новинок в XIX веке распространялись быстрее швейной машины. Фирма “Зингер” с заводами в Бразилии, Канаде, Германии, России и Шотландии и штаб-квартирой на Бродвее (№ 458, позднее № 149) стала обладательницей одной из первых мировых торговых марок. В лучшие времена территория фабрики “Зингер” в Килбоуи (Клайдбэнк) составляла 93 тысячи м², на предприятии работало 12 тысяч человек. В 1904 году мировые продажи превысили 1,3 миллиона машин в год, к 1914 году этот показатель увеличился более чем вдвое. Марка “Зингер” – красная буква S и шьющая девушка (Red S Girl) – была вездесущей. Ее видели, по мнению копирайтеров фирмы, даже на вершине Эвереста. Даже Ганди, презиравший современную медицину, признавал, что швейная машина – “одна из немногих изобретенных полезных вещей”[546].
Фирма “Зингер” олицетворяла американское превосходство. Мало того, что США, как и прежде, влекли прирожденных авантюристов. В 1870–1913 годах США догнали Великобританию. В 1820 году ее население было вдвое больше американского, но к 1913 году все стало наоборот. В 1870–1913 годах американская экономика росла на 80 % быстрее британской[547]. Уже в 1900 году на США приходилась большая доля выпускаемой в мире продукции обрабатывающей промышленности: 24 % по сравнению с британскими 18 %[548]. К 1913 году по расчету на душу населения США оказались индустриальной державой № 1 в мире[549]. Еще важнее то, что производительность американской промышленности догоняла производительность британской (хотя это и произошло не ранее 20-х годов)[550]. И, как в случае Англии, хлопок и текстиль были двигателями “позолоченного века” Америки. Хлопок-сырец с Юга перед Первой мировой войной составлял 25 % объема американского экспорта[551], однако одежду в Америке производили в основном для внутреннего рынка. Английский чистый экспорт товаров из хлопка в 1910 году оценивался в 453 миллиона долларов, американский – 8,5 миллиона. Но удивительнее всего, вероятно, что вторым в мире экспортером товаров из хлопка к тому времени стала незападная страна, первой научившаяся конкурировать с Западом: Япония[552].