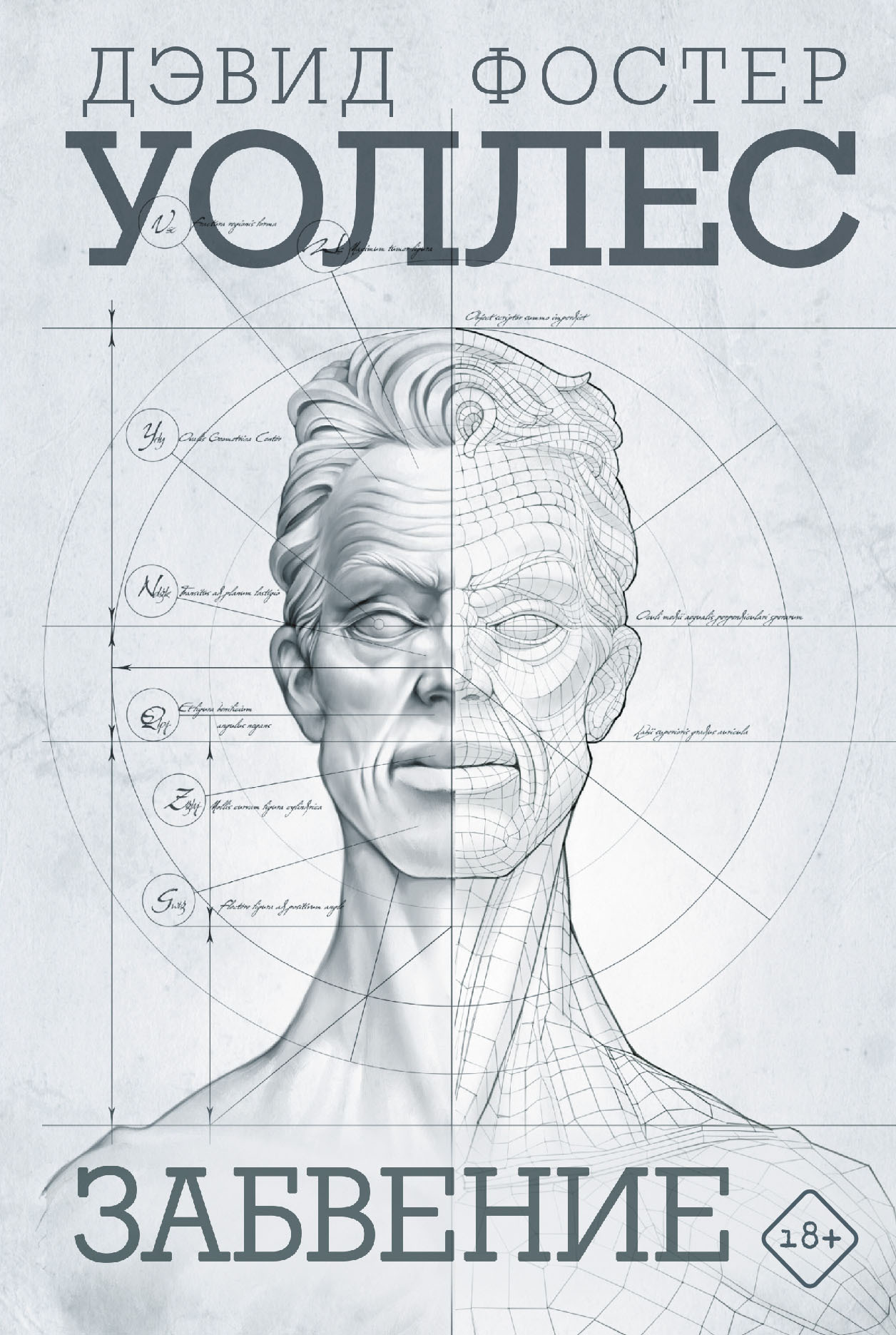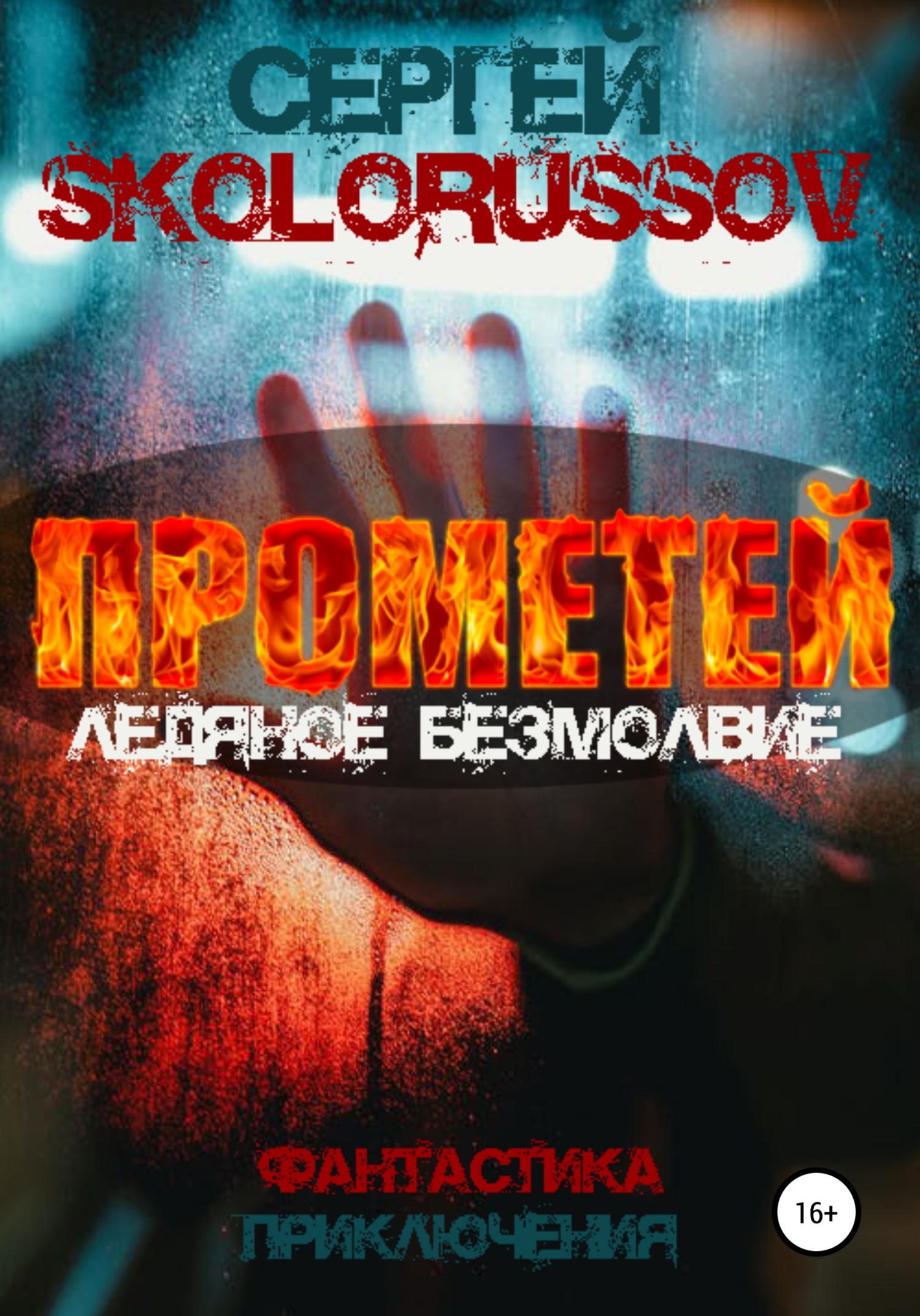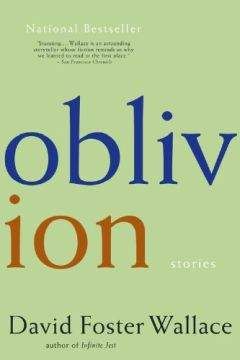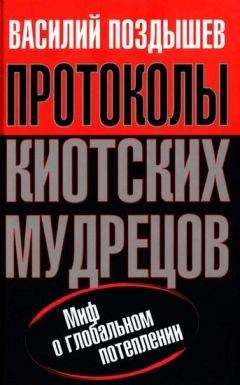метанарративов человечества, таких как гетеросексуальность и прогресс. По образованию Харари – военный историк, но признания он добился как своего рода разоблачитель мифов с подачи Билла Гейтса, Барака Обамы и Марка Цукерберга. Его главное разоблачение состоит в следующем: общество всегда объединяется вокруг коллективного вымысла, как сейчас, так и в прошлом; такие ценности, как прогресс и рационализм, занимают места, которые в прошлом удерживали религия и суеверия. Харари – историк, но его взгляды совмещают научный подход с философским скептицизмом, знакомым по работам столь противоположных ученых, как Дэвид Юм [125] и Джон Грей [126]. Сюда же можно причислить и ряд французских теоретиков, от Лиотара [127] до Фуко [128] и других.
«В последние десятилетия миром управляла доктрина, которую можно назвать „либеральной историей“», – написал Харари в 2016 году, за месяц до избрания Дональда Трампа (92), в эссе, где он одновременно предсказал президентство Трампа и обозначил, какие последствия оно будет иметь для коллективной веры людей в истеблишмент. «Это была простая и привлекательная история, но сейчас она гибнет, и пока нам нечем заполнить образовавшийся вакуум».
Если убрать из истории наше восприятие прогресса, то что останется?
Сейчас очень трудно (если вообще возможно) четко предсказать, чем закончится неопределенность вокруг глобального потепления – до какой степени мы позволим климату измениться и тем более в какой мере эти изменения повлияют на нас. Но необязательно дожидаться худшего варианта развития событий, чтобы ощутить потрясения, способные пошатнуть устоявшиеся представления о неизбежном улучшении жизни с течением времени. Эти потрясения, скорее всего, начнут происходить быстро: новые береговые линии на месте затонувших городов; дестабилизированные общества, отторгающие потоки беженцев в сопредельные государства, тоже уже не понаслышке знающие, что такое нехватка ресурсов; последние несколько столетий, воспринимаемые на Западе как линейный прогресс и рост благополучия, окажутся, напротив, прелюдией к массовым климатическим страданиям. Как именно мы станем воспринимать нашу историю в период изменений климата, зависит от того, удастся ли нам остановить эти изменения и до какой степени мы позволим им повлиять на основы нашей жизни. А пока возможные варианты проносятся у нас перед глазами, словно узоры в калейдоскопе.
Мы мало что знаем о том, как люди воспринимали свою историю до появления сельского хозяйства, государственности и «цивилизации», хотя рассуждения на эту тему были любимым занятием ранних философов, представлявших жизнь первобытных людей в диапазоне от «жестокой, кровавой и короткой» до идиллической, беззаботной и ничем не обремененной.
Существует и другая модель истории, цикличная: она знакома нам по календарю урожая, теории греческих стоиков о «мировом пожаре» (93) и китайскому «династическому циклу» (94). Позже она была взята на вооружение такими мыслителями, как Фридрих Ницше, который при всем своем телеологическом подходе рассматривал временные циклы как духовную метафору с ее «вечным возвращением» (95); Альберт Эйнштейн, который предполагал вариант «цикличной» модели Вселенной; Артур Шлезингер, который рассматривал историю США как сменяющие друг друга периоды «общественных целей» и «частных интересов» (96); и Пол Майкл Кеннеди, в конце холодной войны осторожно выразивший свои взгляды (97) в книге «Взлеты и падения великих держав» [129]. Сейчас эта точка зрения еще популярна во многих странах, не так сильно затронутых индустриализацией, – или там, где ее последствия оказались не столь разрушительными. Возможно, современные американцы воспринимают историю как движение прогресса лишь потому (98), что мы выросли во времена ее имперского величия, так или иначе позаимствовав это мировоззрение у Британии соответствующего периода.
Но изменение климата вряд ли приведет к плавному или полному возврату к цикличному восприятию истории, по крайней мере в домодернистском понимании – отчасти потому, что в век, истерзанный потеплением, ни на какую плавность рассчитывать вообще не приходится. Наиболее вероятный исход будет весьма неприглядным, поскольку место телеологии как единой объединяющей концепции займут ничем не сдерживаемые противоречивые нарративы, которые, словно звери, выпущенные из клеток, разбегутся во все стороны. Но если планета дойдет до трех, четырех или пяти градусов потепления, то человечество забьется в конвульсиях такого масштаба – миллионы беженцев, вдвое больше войн, засух и голода, невозможность экономического роста на большей части планеты, – что ее обитателям будет сложно воспринимать недавнее прошлое как период прогресса или хотя бы как короткую фазу цикла. На деле же все обратится вспять.
Вероятность того, что наши внуки будут навечно обречены жить в руинах некогда благополучной и мирной цивилизации, кажется почти невообразимой с позиций современности, ведь мы до сих пор верим в пропаганду прогресса и улучшения жизни грядущих поколений. Но такое регулярно происходило в истории человечества задолго до начала индустриализации. Именно это пережили египтяне после вторжения «народов моря» и инки после прибытия Франсиско Писарро, жители Месопотамии после Аккадской империи и китайцы после династии Тан. С таким опытом пришлось столкнуться и населению Европы после падения Римской империи – знаменитого до степени карикатурности, в свою очередь породившей десятилетия споров. Но в нашем случае темные века наступят за время жизни одного поколения – достаточно быстро, чтобы помнить, обсуждать и обвинять.
Именно об этом говорят люди, называя изменение климата историческим возмездием. «Техногенная погода не создается прямо сейчас, – пишет Андреас Малм в своей книге „Чем закончится эта буря“ [130], где он убедительно рассуждает на тему политики во времена изменений климата. – Глобальное потепление – результат действий в прошлом».
Эта точная формулировка живо иллюстрирует масштаб и объем проблемы, которая кажется следствием векового сжигания углерода, породившего большую часть того, что мы привыкли считать удобствами современной жизни. В этом смысле изменение климата делает нас всех заложниками промышленной революции и предлагает «ограничительную» модель истории – когда ошибки прошлого мешают движению прогресса в настоящем. Климатический кризис – тоже результат ошибок прошлого, но не столь далекого. До какой степени он изменит мир наших внуков, решится не в Манчестере XIX века, а сейчас и в грядущие десятилетия.
Изменения климата собьют нас с толку и вынудят мчаться в неопределенное будущее – и, если мы ничего не предпримем, заведут настолько далеко, что мы едва ли сможем осознать масштаб происходящего. Это будет совсем не тот «технологический шок», который испытали обитатели Викторианской эпохи – впервые столкнувшись с ускоряющимся темпом прогресса, они были ошеломлены количеством изменений, произошедших за одну человеческую жизнь, – хотя сейчас мы и