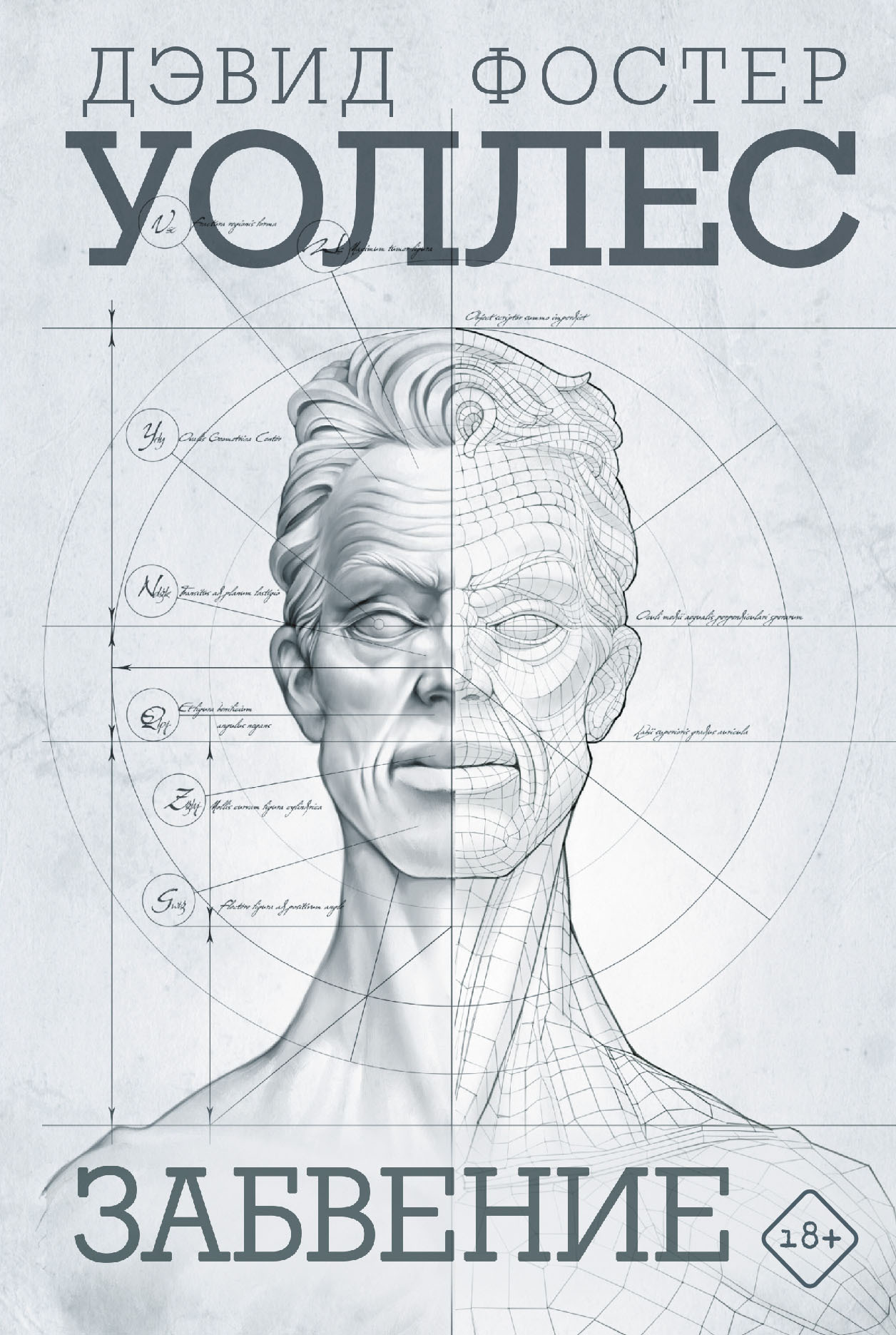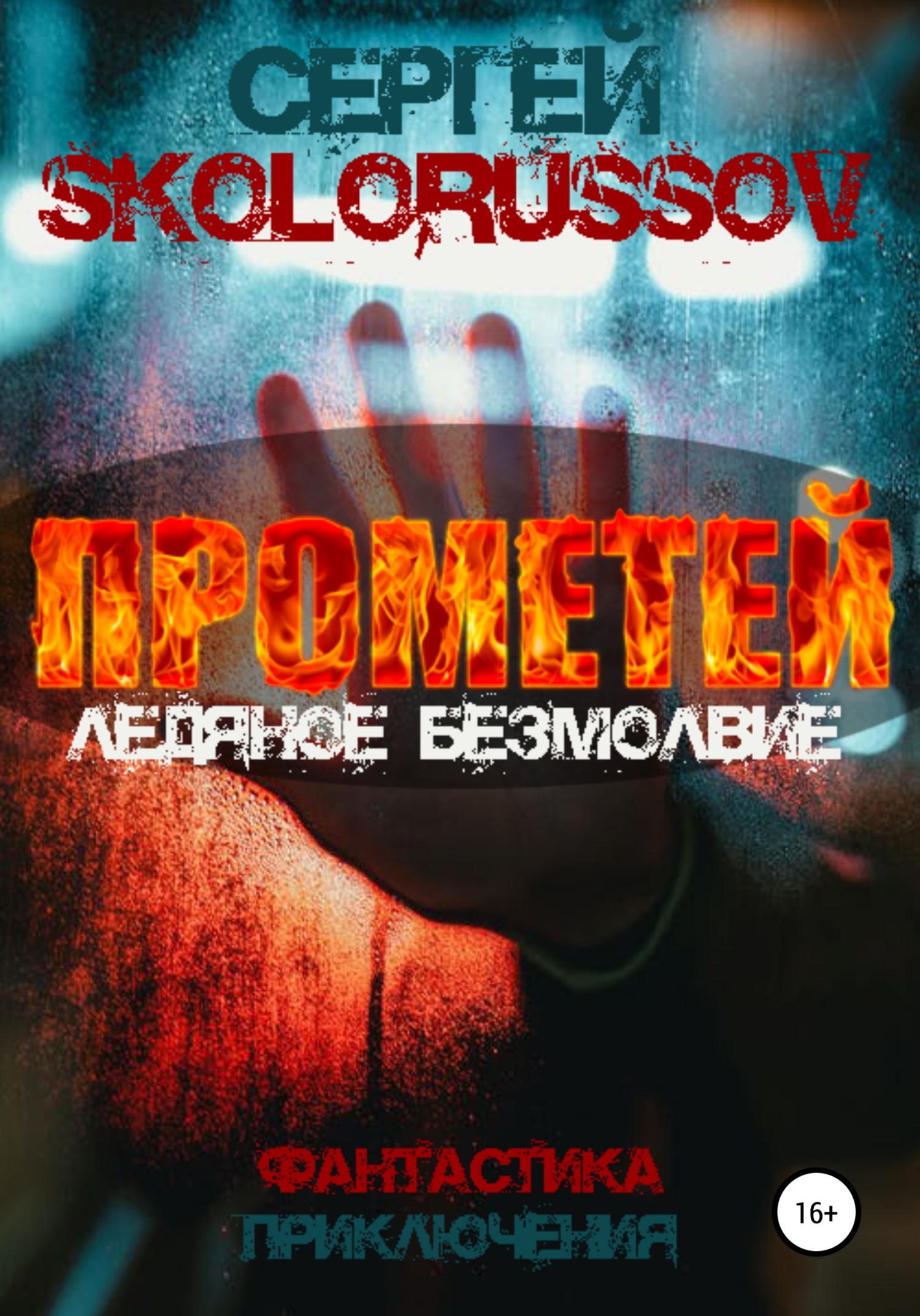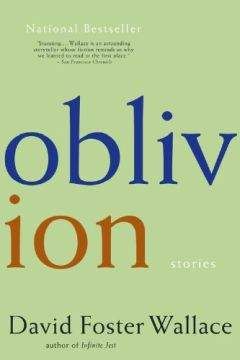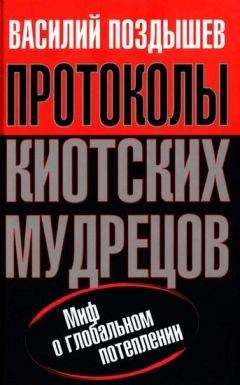социологом Харальдом Вельцером в книге «Климатические войны» [116]: он предсказывает «ренессанс» ожесточенных конфликтов в грядущие десятилетия (85). Подзаголовок книги звучит так: «За что людей будут убивать в XXI веке».
Уже сейчас в некоторых местах политический коллапс становится типичным следствием климатического кризиса – просто мы склонны называть это гражданскими войнами. И мы склонны анализировать их с позиций идеологии – как это было с Суданом, Сирией и Йеменом. Эти коллапсы, скорее всего, формально останутся «локальными» и не перерастут в «глобальные», хотя во времена климатического кризиса у них будет больше шансов дать метастазы за пределами государственных границ. Иными словами, до мира из «Безумного Макса» [117] нам еще далеко, поскольку даже катастрофические изменения климата не уничтожат все политические силы – на самом деле останутся даже условные победители. У некоторых из них будут большие армии и стремительно развивающиеся системы наблюдения за гражданами – уже сейчас в Китае с помощью технологии распознавания лиц преступников вылавливают даже на поп-концертах (86), а для слежки запускают мини-дронов (87), издалека неотличимых от птиц. И эта растущая империя вряд ли оставит без внимания нейтральные земли в зоне своей досягаемости.
Но кое-где сценарии, напоминающие «Безумного Макса», неизбежны. За последние десять лет на грани оказались Сомали, Ирак, Южный Судан, хотя порой геополитическая ситуация и казалась стабильной жителям Лос-Анджелеса или Лондона. Идея «глобального мирового порядка» всегда оставалась лишь фантазией или максимум мечтой, даже когда объединенные силы либерального интернационализма, глобализации и американской гегемонии потихоньку толкали нас в эту сторону в прошлом столетии. Скорее всего, в течение следующего столетия изменения климата обратят эту тенденцию вспять.
История после прогресса
Принцип линейного движения истории – один из мировоззренческих столпов современного Запада (88). Он пережил с некоторыми незначительными изменениями контраргументы прошедших столетий: геноциды и концлагеря, голод, эпидемии и войны с десятками миллионов жертв. Это мировоззрение так глубоко закрепилось в воображении политиков, что гротескное неравенство и несправедливость часто становятся не поводом усомниться в ходе истории, а напоминанием о его неизбежности: может, не стоит так переживать из-за этих проблем, все равно «история движется в верном направлении» и силы прогресса, продолжая метафору, находятся «на правильной стороне истории». А на какой стороне находится изменение климата?
Ни на какой – оно существует само по себе. В результате глобального потепления ничто хорошее в мире не станет доступнее. А вот перечень всего, что станет хуже, практически бесконечен. Уже сейчас, на начальном этапе экологического кризиса, появляется множество книг, наполненных глубоким скептицизмом: не только история может пойти в обратном направлении, но и весь проект человеческого расселения и цивилизации – который мы называем «историей», а именно он привел нас к изменению климата – на самом деле представляет собой стремительный регресс. И по мере ужесточения климата эти антипрогрессивные взгляды будут все больше распространяться.
Современные Кассандры [118] уже наготове. В книге «Сапиенс» (89), где развитие человеческой цивилизации рассматривается с отстраненной точки зрения, историк Юваль Ной Харари выдвигает теорию, что развитие лучше всего воспринимать как последовательность мифов, первый из которых рассказывает об изобретении земледелия – главного достижения прогресса во времена так называемой неолитической революции («Мы не одомашнили пшеницу. Она нас одомашнила», – верно подметил он). В книге «Против зерна» [119] ученый-политолог и антрополог анархии Джеймс Скотт приводит подробную критику этого периода (90): культивация пшеницы, утверждает он, привела к появлению того, что мы называем государственной властью, а вместе с ней – бюрократии, притеснений и неравенства. В средней школе нам рассказывали о сельскохозяйственной революции как о начале «настоящей» истории человечества. Современный человек существует около 200 тысяч лет, а сельское хозяйство – только 12 тысяч лет: с этой инновацией закончилась эпоха охоты и собирательства, появились города и политические системы, а вместе с ними и то, что мы привыкли считать «цивилизацией». И даже Джаред Даймонд в книге «Ружья, микробы и сталь» [120], где он рассматривает экологические и географические аспекты развития промышленного Запада и чью книгу «Коллапс» [121] можно считать предвестником новой волны ревизионизма, назвал неолитическую революцию «худшей ошибкой в истории человеческой расы» (91).
Этот аргумент даже не учитывает индустриализацию, ископаемое топливо или урон, который они угрожают нанести планете и хрупкой цивилизации, возникшей на ее поверхности. Вместо этого, говорит новый класс скептиков, обвинение против цивилизации можно построить на аргументах против сельского хозяйства: оседлая жизнь, появившаяся благодаря земледелию, в итоге привела к формированию более плотных поселений, но в течение следующей тысячи лет численность населения почти не увеличивалась и потенциальный рост от сельского хозяйства не состоялся из-за эпидемий и войн. И речь не о коротком мучительном эпизоде, через который люди вошли в новые изобильные времена, – нет, это сага о раздорах, продолжавшихся очень долгое время, по сути, до наших дней. В значительной части мира люди до сих пор остаются ниже ростом, болеют чаще и умирают раньше, чем наши предки, охотники-собиратели, которые, кстати, гораздо бережнее относились к планете, на которой мы все живем. И они хозяйничали на планете намного дольше нас – почти все 200 тысяч лет. То, что мы привыкли снисходительно называть «доисторическим» периодом, составляет около 95% всей истории человечества. Почти все это время люди перемещались по планете, но не наносили ей никакого заметного ущерба. Получается, что оставшиеся 5% – а это вся история цивилизации и вообще все, что мы привыкли называть «историей», – можно рассматривать не как неизбежный триумф, а скорее как аномальный всплеск. В свою очередь, период индустриализации и экономического роста, давший нам ощущение моментального достижения материального прогресса, занимает еще меньше времени – эдакая мини-аномалия внутри аномалии. И именно эта мини-аномалия привела нас на грань климатической катастрофы.
Джеймс Скотт подходит к этому вопросу как радикальный антиэтатист. Ближе к концу своей карьеры он выдал ряд блестяще остроумных работ, ярко продемонстрировав свое академическое инакомыслие, среди которых «Искусство быть неподвластным» [122], «Доминирование и искусство сопротивления» [123] и «Анархия? Нет, но да!» [124]. Подход Харари немного странный, но более информативный – глубокий пересмотр нашей коллективной веры в прогресс, возведенной на пьедестал в разгар экологического кризиса, нами же и созданного. Харари, будучи гомосексуалом, очень вдохновенно пишет о том, как «каминг-аут» определил его скептицизм в отношении устоявшихся