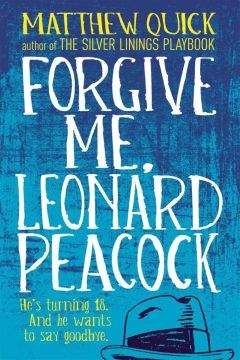С вызреванием квантовых представлений до общей структуры, которая заместит законы Ньютона, физики наконец смогли записать уравнения, из которых, в принципе, можно вывести поведение всех возможных атомов, хотя в большинстве случаев для этого требуется мощь суперкомпьютеров. Но чтобы проверить предположения Бора о важности атомного номера, никому ждать суперкомпьютеров не пришлось: в традиции Менделеева Бор предсказал свойства еще не открытого тогда элемента, и именно его Менделеев, основывая систему на атомной массе, определил ошибочно.
Элемент этот был открыт вскоре после прогноза Бора, в 1923 году, и назвали его гафнием, в честь Гафнии – так на латыни именуется родной город Бора, Копенгаген. С тех пор уж ни один физик[364] (или химик) никогда больше не усомнится в истинности теории
Бора. Лет пятьдесят спустя имя Бора войдет в таблицу Менделеева – сто седьмой элемент получит название «борий». В тот же год бывший наставник, а иногда и критик датского физика будет удостоен той же чести: элемент 104 называется резерфордием[365].
Глава 12
Квантовая революция
Несмотря на обилие блистательных и пытливых умов, сосредоточившихся на представлении о кванте, и отдельные истины, которые они предположили или открыли, к началу 1920-х никакой общей теории кванта все еще не возникло, и даже намека, что такая теория вообще возможна, не появилось. Бор состряпал кое-какие принципы, которые, окажись правдой, объясняли бы, почему атомы стабильны и почему у них такие спектральные линии, но с чего бы этим принципам быть истинными и как применять их к анализу других систем? Этого не знал никто.
Многие физики-квантовики разочаровались. Макс Борн (1882–1970), будущий Нобелевский лауреат, вскоре предложивший понятие фотона, писал: «Без всякой надежды думаю о квантовой теории, пытаюсь найти рецепт расчета устройства гелия и других атомов; но успехов никаких… Кванты и впрямь безнадежная неразбериха»[366]. А Вольфганг Паули (1900–1958), еще один получатель Нобелевской премии, предложивший, а затем и разработавший математическую теорию характеристики электрона под названием «спин», выразился так: «Физика сейчас очень мутная; для меня-то она во всяком случае чрезмерно трудна, лучше б я был комиком в кино, или кем-нибудь в этом роде, и никогда о физике не слыхал»[367].
Природа подкидывает нам загадки, и кому как не нам их разгадывать. Про физиков можно сказать одно: они глубоко верят, что в этих загадках скрыты фундаментальные истины. Мы убеждены, что природой управляют общие законы и что она – не винегрет не связанных между собой явлений. Первые исследователи-квантовики не знали, какая она будет, квантовая теория, но не сомневались, что такая теория должна возникнуть. Мир, исследуемый ими, упрямо не желал поддаваться объяснениям, но физики допускали, что в нем можно разобраться. Мечты питали их труд. Не скрыться им было от сомнений и отчаяния, как и всем нам, и все же они двигались вперед – трудным путем, который сжирал годы их жизней, а вела их вера, что в конце этого пути им достанется награда – истина. Как и в любом нелегком предприятии, как нам известно, преуспевают лишь те, в ком сильно стремление, а маловеры сходят с дистанции прежде, чем достигнут чего-либо.
Легко понять отчаяние Борна или Паули: квантовая теория – крепкий орешек не только сама по себе, но и созревала она в трудное время. Большинство пионеров кванта трудились в Германии или перемещались между Германией и институтом, на который Бор собрал деньги и который учредил в 1921 году при Университете Копенгагена, и потому им суждено было вести исследования нового научного порядка в поры, когда общественный и политический порядок распался и превратился в хаос. В 1922 году убили министра иностранных дел Германии. В 1923-м курс немецкой марки рухнул до одной триллионной ее довоенной цены, и на покупку килограмма хлеба требовалось пятьсот миллиардов «немецких талеров». И все же новые квантовые физики искали подпитки в понимании атома и вообще глубинных законов природы, действующих в этих мельчайших масштабах.
И подпитка наконец начала поступать – в середине того же десятилетия. Поступала она урывками, и первая статья на эту тему была опубликована в 1925 году – двадцатитрехлетним Вернером Гейзенбергом (19011976).
* * *
Гейзенберг родился в немецком Вюрцбурге, в семье преподавателя классического немецкого языка, и с самого детства было ясно, что он гениален – и азартен[368]. Отец поддерживал в нем дух соперничества, и Гейзенберг частенько дрался со своим старшим братом-погодком. Противостояние вылилось в кровавый мордобой – мальчишки избили друг друга деревянными стульями, после чего объявили перемирие, кое затянулась в основном потому, что каждый пошел своим путем, оставив дом, и братья до конца своих дней не перемолвились ни словом. Позднее Гейзенберг с той же свирепостью бросался в атаку на любые препятствия в своей работе.
Вернер всегда очень лично воспринимал любой сопернический вызов. Никакого особого таланта к лыжам у него не было, но он натренировался и стал отличным лыжником. Научился бегать на длинные дистанции. Освоил виолончель и фортепиано. Но, самое главное, еще в школе он обнаружил, что у него талант к арифметике, и он увлекся математикой и ее приложениями.
Летом 1920 года Гейзенберг решил получить докторскую степень по математике. Чтобы включиться в программу, необходимо было договориться с сотрудником факультета о покровительстве, и, спасибо отцовым связам, Гейзенберг смог добиться собеседования с известным математиком Фердинандом фон Линдеманом в Университете Мюнхена. Собеседование получилось не из категории приятных, таких, знаете, с чаем и тортиком «Шварцвальд» и рассказами о том, как все наслышаны о гении претендента. Напротив, оно оказалось из скверных: Линдеман, которому оставалось два года до пенсии, был глуховат, не слишком заинтересован в студентах-первогодках и все собеседование держал на столе пуделя, а тот лаял так громко, что Гейзенберга и слышно-то не было. Но под конец шансы Гейзенберга, похоже, обнулились совсем, когда он помянул прочитанную им книгу по Эйнштейновой теории относительности, авторства математика Германа [Херманна] Вейля. Услыхав об интересе молодого человека к книжкам по физике, теоретик чисел Линдеман резко свернул собеседование словами: «В таком случае вы совершенно потеряны для математики»1.
Этим замечанием Линдеман, быть может, имел в виду, что интерес к физике указывает на дурной вкус, хотя сам я как физик хотел бы думать: старый математик подразумевал, что осведомленность Гейзенберга о куда более интересном предмете помешает ему проявить необходимое в математике терпение. Так или иначе высокомерие Линдемана и его зашоренность изменили ход истории: прими он Гейзенберга, физика потеряла бы человека, чьи мысли стали сутью квантовой теории[369].
Отвергнутому Линдеманом Гейзенбергу мало что оставалось на выбор, и он решил добыть утешительный приз в докторской степени по физике под руководством Арнольда Зоммерфельда, большого поклонника Боровской модели атома, внесшего в нее немалый вклад. Зоммерфельд, худой, лысеющий мужчина в роскошных усах и без всякого пуделя, изрядно изумился, узнав, что юный Гейзенберг разобрался в книге Вейля. Не чрезмерно, чтобы тут же взять Гейзенберга к себе, но все же достаточно, чтобы принять его под крыло на время. «Быть может, вы что-то знаете, а может, не знаете ничего, – сказал Зоммерфельд. – Вот и поглядим»[370].
Гейзенберг, конечно же, что-то знал. Этого «чего-то» хватило, чтобы он в 1923 году защитил докторскую диссертацию у Зоммерфельда, а в 1924-м получил еще более высокую степень – doctor habilitatus, потрудившись под началом Борна в Гёттингене. Но его путь к бессмертию по-настоящему начался позже, с визита в Копенгаген к Нильсу Бору осенью 1924 года.
Когда прибыл Гейзенберг, Бор руководил бесплодными попытками улучшить свою модель атома, и Гейзенберг присоединился к нему. Я сказал «бесплодными» не потому, что они в итоге пропали втуне, а из-за их целей: Бор хотел избавить свою модель от фотона, Эйнштейнова кванта света. Странное, казалось бы, дело: именно мысль о световом кванте подтолкнула Бора думать о том, что у энергии атома могут быть лишь некоторые дискретные значения. Все же Бор, как и многие физики, в действительность фотона верил без охоты и потому задался вопросом: можно ли разработать версию Боровской модели атома, в которой фотона не будет?[371] Бор считал, что можно. Мы уже знаем, как Бор корпит над теми или иными представлениями и преуспевает, но тут он корпел безуспешно.
В поры моего студенчества мы с друзьями боготворили многих физиков. Эйнштейна – за его непрошибаемую логику и радикальные мысли. Фейнмана и британского физика Поля Дирака (1902–1984) – за изобретение с виду противозаконных математических понятий и получение с их помощью потрясающих результатов. (Математики позднее все же совладают с ними и теоретически.) А Бора – за его чутье. Мы думали о них как о героях, сверхчеловеческих гениях, чье мышление всегда было ясным, а видение – верным. Ничего необычного в этом нет, думаю: все художники, предприниматели и фанаты спорта могут назвать людей, которых считают исполинами.