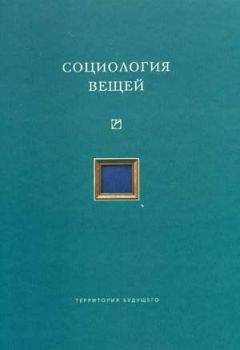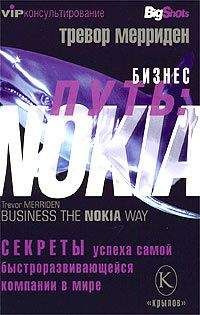85
Кино опять же имеет здесь свои отличающиеся от описанных условности фреймовой организации. Кино позволяет показывать в пределах одной сцены фильма развитие поведения и ход действий в разные периоды времени (обычно короче, чем это было бы в действительности, но иногда и дольше) просто потому, что отснятые куски фильма при монтаже могут быть либо вырезаны, либо вставлены в поток того материала, который в итоге увидят зрители, и еще потому, что за секунду может быть отснято разное число кадров. Разумеется, подобные манипуляции со временем срабатывают постольку, поскольку зритель способен сделать все необходимые выводы из коротких эпизодов, смонтированных из отдельных киноснимков. Пудовкин раньше многих высказался об этом различии театра и кино, прибавив и полезные комментарии об истории появления указанного различия – в частности, о специальной технике киносъемок и монтажа, которая отошла от предшествующей ей практики прямолинейной фотосъемки театральных спектаклей (Пудовкин В. И. Кино-режиссер и киноматериал. М.: Кинопечать, 1926. С. 3–13. англ. изд. 52–57).
Бела Балаш предлагает свой комментарий: «Фильм мог бы показать забег на тысячу ярдов, сжав его в короткий эпизод продолжительностью в пять секунд, и потом дать в двадцати быстро сменяющихся крупных планах борьбу на последних ста ярдах между соперниками, которые, задыхаясь, бегут голова к голове, то вырываясь вперед, то отставая на несколько дюймов, пока, наконец, оба не придут к финишу. Эти двадцать съемочных кадров могут продолжаться на экране, скажем, сорок секунд, то есть в реальном времени дольше, чем эпизод, в котором показаны первые девятьсот ярдов забега. Тем не менее мы воспримем демонстрацию финишного отрезка как более короткую, наше чувство времени будет говорить нам, что мы видели всего лишь краткое мгновение, увеличенное словно под микроскопом» (Balázs B. Theory of the Film / Transl. by E. Bone. New York: Roy Publishers, 1953. P. 130).
Здесь напрашивается интересное сравнение с условностями, на которых держится показ диапозитивов, связанных одним сюжетом. Как отмечает Борис Успенский в разделе «„Точки зрения“ в плане пространственно-временной характеристики» своей книги «Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы» (М.: «Искусство», 1970), каждый диапозитив изображает какой-то сжатый и остановленный во времени момент повествования, а последовательный переход от одного кадра-диапозитива к следующему пропускает в восприятии зрителя самые разные промежутки конденсированного времени повествования (Успенский Б. А. Указ. Соч. С. 96–97; Uspensky B. A. Study of Point of View: Spatial and Temporal Form // The Poetics of Composition: Structure of the Artistic Text and the Typology of Compositional Form / Transl. by V. Zavarin, S. Wittig. Berkley: University of California Press, 1974. P. 16). Движение времени от кадра к кадру при демонстрации диапозитивов отчасти подобно движению от сцены к сцене в пьесе, за исключением того, что во втором случае обычно наблюдаются более масштабные скачки времени.
Balázs B. Theory of Film. P. 121. [В русском издании книги Балаша: «В кинофильме можно „пропустить“ время лишь при условии, если сцена будет прервана промежуточной картиной. Но сколько именно времени протекло за такой промежуток – этого продолжительность промежуточной картины показать не может» (Балаш Б. Искусство кино. М.: Госкиноиздат, 1945. С. 65)]
Ibid. P. 145.
Ibid. P. 122.
San Francisco Chronicle. March 16, 1966.
Ibid. March 17, 1966.
В серии телепередач «Чем я занимаюсь?» участвовало множество «экспертов», задававших неопределенно-общие вопросы гостям, которые отвечали «да» либо «нет». Целью игры было выявить того, кто смог бы быстрее всех догадаться о профессии отвечавших. Телезрителям показывали ответ другой камерой. Этим создавалась некая телепатическая напряженность, интрига, ибо каждый гость отбирался по принципу непохожести на обычно ожидаемый тип человека его профессии, то есть фактически в противоречии с общепринятыми представлениями о персональных ролевых формулах. Разумеется, формат игры был рассчитан и на дополнительные источники развлекательности, например, на эффект восприятия вопросов, задаваемых в полном неведении, но которые в свете знания телезрителей о действительном занятии отвечавшего звучали бы для них двусмысленно и рискованно. Это телешоу показало, что и внешность людей может толковаться совершенно ошибочно, а самый невинный смысл высказываний – искажаться потенциально рискованными толкованиями. Но еще более существенно, как я думаю, то, что оно показало, сколь дорогостоящая и громоздкая операция требуется в случаях, когда такие неправильные прочтения надо актуализировать в нужный момент, по плану.
См.: Goffman E. Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1961. P. 141–142.
Donnelly R. C., Goldstein J., Schwartz R. D. Criminal Law. New York: The Free Press, 1962. P. 735.
Ibid. P. 737.
См., напр.: Gendin S. III. Insanity and Criminal Responsibility // American Philosophical Quarterly. 1973. Vol. 10. P. 99–110.
Как поясняет Джоан Эмерсон: «При гинекологическом осмотре поддерживаемая общими усилиями реальность состоит не из одного медицинского определения ситуации, но из разноголосицы многих тем и контртем» (Emerson J. P. Behavior in Private Places: Sustaining Defi nitions of Reality in Gynecological Examinations // Recent Sociology. № 2 / Ed. by H. Dreitzel. New York: Macmillan, 1970. P. 91.). См. также раздел под заголовком «Одновременная множественность Я» в: Goffman E. Role Distance // Goffman E. Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianopolis: The Bobbs-Merrill Company, 1961. P. 132–143.
Macgowan K., Melnitz W. Golden Ages of the Theater. P. 52. Отметим, что эти ограничения касаются только театрального фрейма. Более широкий анализ заставляет нас признать, что уже при легком изменении настроечного ключа театральной деятельности может сложиться другой набор ограничений. Любительский спектакль, который позволяет человеку изображать сценический персонаж не будучи профессиональным актером, без сомнения, допускает в распределении ролей свободу, которой нет у профессионального театра, так что домашние, школьные и университетские спектакли имели возможность заполучать исполнителей знатного происхождения во времена, когда коммерческие постановки такой возможности не имели. Вот почему в спектакле по пьесе Джо Ортона «Эрпинхемский лагерь», поставленном в Кембриджском университете, принц Чарлз мог одеться католическим священником и получить в лицо кремовым тортом на глазах у публики (Life, December 13, 1968). Аналогично, как можно догадаться исходя из фрейма соответствующей деятельности, пьесы, поставленные с благотворительной целью, могли привлекать исполнителей, которые в иных обстоятельствах всячески избегали бы подмостков; а сценические постановки, которые отличаются от обыкновенных пьес, могли успешно использовать ролевую формулу личности, совершенно отличную от той, какая регулирует общепризнанную сценическую деятельность.
Один пример необычных постановок: «Последней формой театрального развлечения, зародившейся в елизаветинские времена и усовершенствованной при первых двух королях из династии Стюартов, были „маски“. Корни ее надо искать в придворных зрелищах итальянского Ренессанса. В канун Крещения [„двенадцатая ночь“ после Рождества] 1512 года молодой Генрих VIII „с одиннадцатью придворными нарядились на манер итальянцев в пресловутые маски – событие прежде в Англии невиданное“. До этого тоже бывали „ряженые“ и великолепные бальные зрелища, но тогда в первый раз королевская особа приняла участие в таком развлечении. Дочь Генриха VIII Елизавета также пользовалась маской (персонажа, заимствованного из Франции), и ее представления, подобно представлениям отца, были в основном пантомимами… Некоторые представления с масками устраивались в помещениях главных юридических корпораций, но большинство из них в королевских дворцах… В них участвовали придворные, а также обученные певцы и танцоры. Принц Генрих безмолвно „прохаживался“ в заглавной роли в „Маске Оберона“, и сам Карл I вместе с королевой играли в некоторых из этих спектаклей. Жена Якова I королева Анна любила маски даже больше театра и чернила свое лицо, чтобы играть одну из негритянок в „Маске тьмы“» (Macgowan K., Melnitz W. Golden Ages of the Theater. P. 88).
Ibid. P. 45–46.
Одно из исключений: в ранних радиопьесах предпочитали использовать женские голоса в ролях детей.
Интересно, что использование черных манекенов, с недавних пор устанавливаемых в магазинах США и Британии, все еще встречает, по газетным сообщениям, заметное сопротивление в Южной Африке. См.: Clothes Dummies Stir South Africa // The New York Times. January 4, 1970.
Newsweek. January 21, 1974.
Смысл сказанного отчасти раскрывается в нижеследующем газетном интервью. В 1968 году актриса Сьюзан Йорк, типаж которой выглядел вполне невинно, сыграла пятиминутную сцену лесбийской любви в фильме «Убийство сестры Джордж», которая по тем временам тоже выходила за пределы обычного фрейма кинематографической игры. Процитируем отрывок из интервью Норы Эфрон с мисс Йорк: