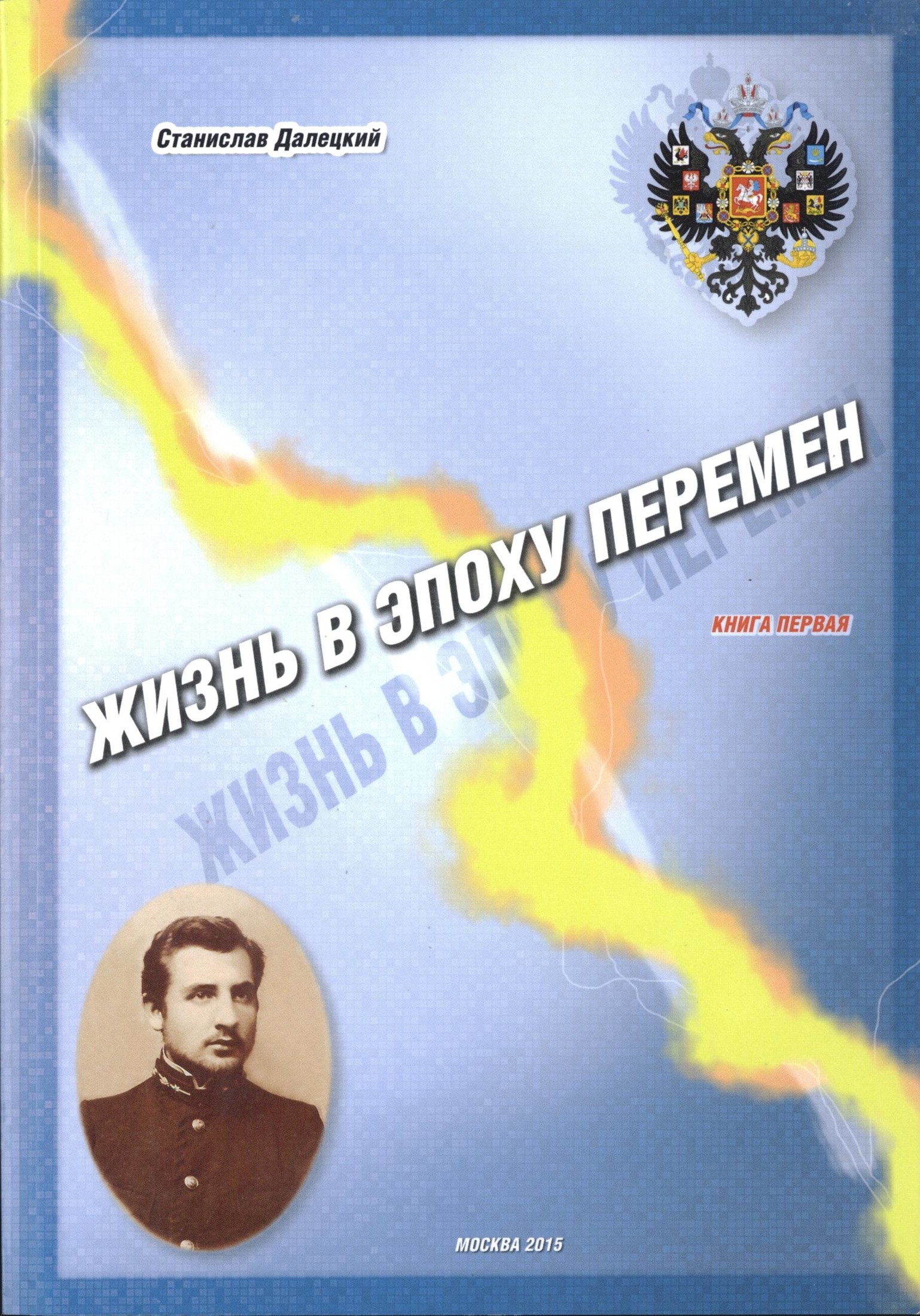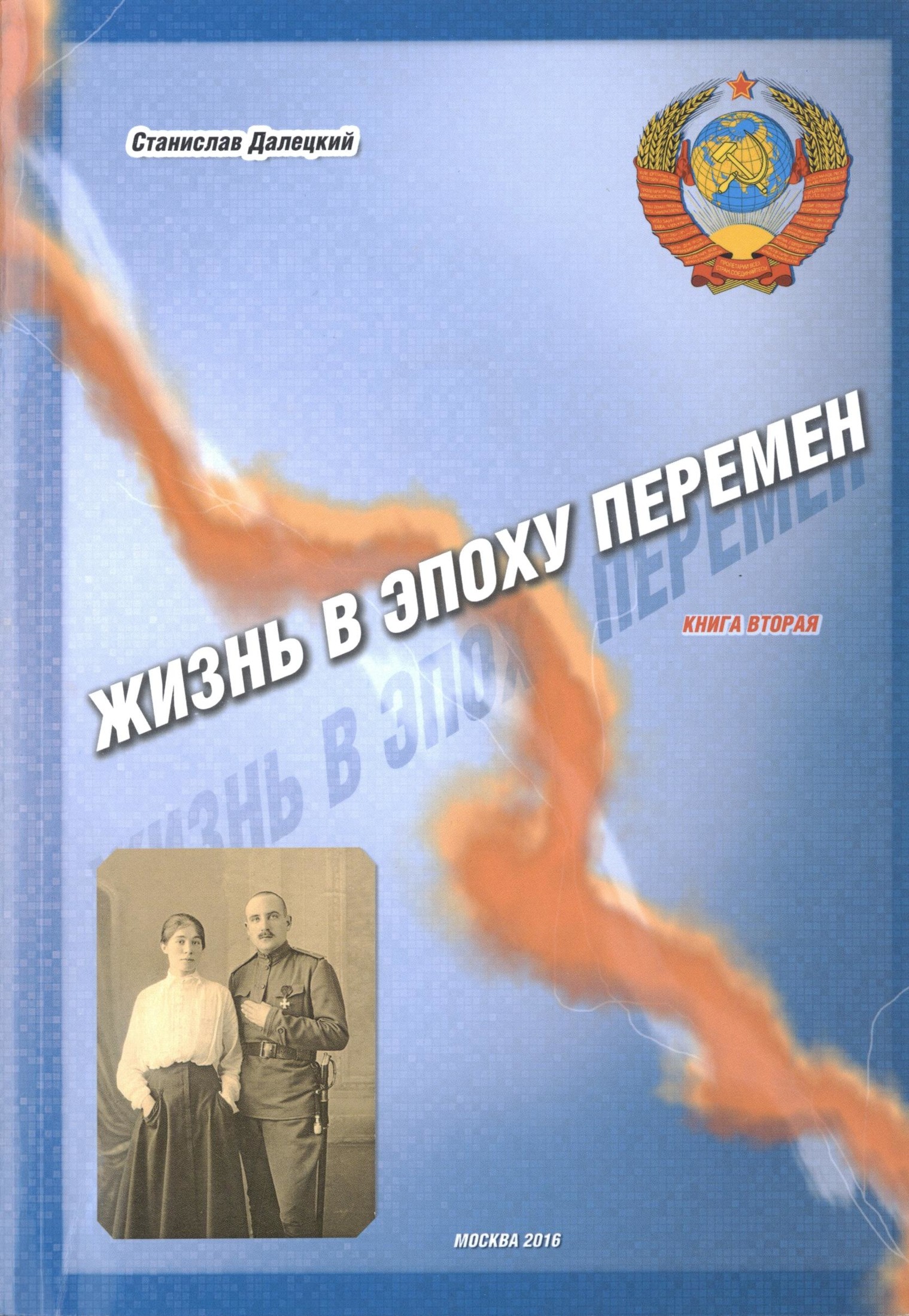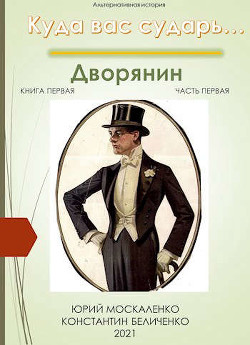дворяне, таких же родов древних, как и наш.
– Ради тебя, Иван, готов навестить твою сестру Лиду. Я не потому к ней ходить не люблю, что замужем за лавочником, а потому, что лавочники эти скопидомы, каждую копейку считают и каждым пряником, что твоя сестра давала тебе в детстве, её же и попрекали. Мне неважно, кто и чем занимается, важно, чтобы человек был хороший, добрый и отзывчивый: сам погибай, а товарища выручай – так меня в армии учили, а эти лавочники не то что товарища, а брата или родственника бедного в голодный год куском хлеба не выручат.
У нас на селе этот год была голодным, – вспомнил, кстати, Иван. – Неурожай был на три волости: ни зерна, ни картошки, ни сена: всё сгнило дождливым летом и осенью – так крестьянам тоже никто не помог: ни власти, ни соседние волости, ни царь-батюшка, – вспомнил Иван свои споры с Ариной. – На селе у кулаков был хлеб с прошлого года, но они его продавали за деньги в другие места, а сельчанам в долг не давали. К весне полная бескормица наступила и для людей, и для скота. Главное, что рядом, в уездном городе хлеб был, но помогать никто не стал, подъели в селе всё подчистую – все сусеки вымели, солому с изб скоту скормили, а все равно несколько селян с голоду умерли и никому до них дела не было.
– Такое часто случается в стране, – успокоил отец Ивана. – Бывало, целые губернии голодали и крестьяне мёрли как осенние мухи, а помощи ждать неоткуда, если каждый сам за себя. Помню, одним годом, когда я еще служил офицером, так купцы скупили в округе всё зерно и вывезли на продажу за границу, а дело было за Уралом, в Кургане – там тогда половина губернии от голода вымерла и никто им на помощь не пришел потому что хозяина в стране нет.
Я в газетах читал, что последние двадцать лет из каждых пяти лет два выдаются неурожайными, голодает иногда полстраны, люди умирают с голода, а зерно вывозится за границу и ещё хвастают, что мы кормим полЕвропы. Ты сначала свой народ накорми, а потом излишки зерна и продавай разным немцам. Царь наш только числится батюшкой, а на самом деле он отчим жестокий своему народу – иностранцы ему милее своих подданных, да и сами эти цари – Романовы только по фамилии. На самом деле немцы они по крови и по духу и простой русский народ им не нужен и лишь путается под ногами царей, которые считают себя европейцами и хотят жизнь в России устроить на европейский лад, не понимая, что в наших условиях можно выживать только сообща, а не поодиночке, как в Европе, где и зимы-то настоящей нет.
Царь Петр Первый потянулся в Европу – прорубил в нее окно через Прибалтику и Петербург – с тех пор нас европейским сквозняком и сдувает с нашей земли к Уралу и в Сибирь, а всякие европейцы: немцы, французы, англичане и прочие шведы спят и видят, чтоб русские исчезли из этих мест и сгинули за Уралом. Эх, если бы не людская жадность да ничтожность наших правителей: как бы вольготно русский народ мог жить на своей земле, что протянулась от здешних мест и до Тихого океана на десять тысяч вёрст!
Ладно, хватит мечтать, сын, пойдем, навестим твою сестру Лидию, коль ты настаиваешь, – закончил отец свои рассуждения об устройстве Российского государства и они направились вдоль улицы к Лидии, проживающей на другом конце села.
Сестра Лида прихворнула и лежала в кровати под теплым одеялом, несмотря на жаркий день. Ей было немного за тридцать пять лет, но выглядела она гораздо старше: это была полная женщина болезненного вида, очень похожая на мать – как подумалось Ивану. Старший сын Лидии, уже помогал отцу в лавке, которая перешла к нему по наследству. Двое других детей Лидии: сын – тринадцати и дочь одиннадцати лет были в гостях у свекрови, что жила в уездном городке, куда переехала с дочерью на жительство после смерти мужа.
Так что с внуками Петру Фроловичу пообщаться не удалось и попив чаю и переговорив, ни о чем, с Лидией, отец и сын возвратились домой, а зять даже не соизволили подняться из лавки в горницы, чтобы поприветствовать Петра Фроловича в своем доме.
– Вот так всегда, – негодовал Петр Фролович, возвращаясь с Иваном в родную усадьбу: найдешь время навестить Лидию, а им недосуг и уходишь, несолоно хлебавши – потому и не люблю я к ним заходить, что неприветливо встречает муж Лидии своего тестя. Бог им судья, а мы, сейчас вернемся домой, Фрося наварила ухи, махну я пару рюмок водочки за помин души своей женушки Пелагеи и ты, Иван, расскажешь мне о своем учительстве за два года в том селе и почему до сих пор не женился, хотя в прошлый приезд и говорил о какой-то зазнобе, – размечтался отец, шагая по селу рядом с Иваном, и кивком головы приветствуя крестьян, которые низким поклоном встречали своего бывшего барина.
За обедом из ухи и жареной курицы, которой Фрося собственноручно отрубила голову, Петр Фролович, как и обещался, выпил три рюмки водки, раскраснелся и принялся расспрашивать Ивана о житье в том селе и как он думает учиться дальше и на что жить в большом городе Вильне.
Иван успокоил отца: «Помощи просить не стану – немного деньжат скопил на первое время, а потом буду давать уроки на дому – это дает неплохой приработок. Жить буду сначала в пансионе при институте, а потом сниму комнату, может быть на пару с другим студентом.
– Или со студенточкой, – хитро улыбнулся отец.
– Ну, если встречу самостоятельную и мне по нраву, почему бы и нет? – спросил Иван. – Сейчас жениться в городах уже стало необязательно. Сошлись, пожили вместе и разошлись, если, конечно, детей нет. Но наука учит уже как избежать детей нежеланных, – без стеснения ответил Иван. – Думаю год проучиться, привыкнуть, показать себя в институте, а там можно и личную жизнь устраивать и даже жениться на горожанке: если по душе и с приданым.
– Куда же твоя селяночка пропала, кажется, её Татьяной звали, и дочкой старосте она приходилась? – спросил отец, словно хвастаясь своей памятью.
– Узнала случайно, что я сожительствую со служанкой, обиделась за это и уехала к дяде в город Могилев учиться на учительницу тоже, – откровенно сказала Иван на вопрос отца.
– Это по-нашему, по-Домовски, – рассмеялся отец. –