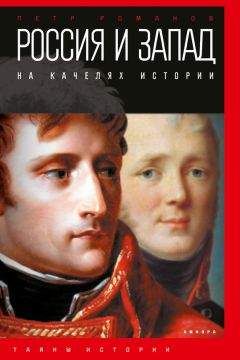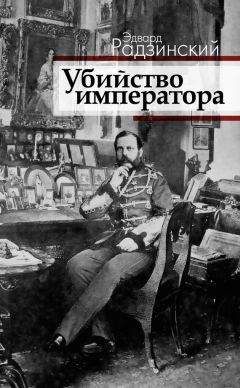внешнеполитическую индифферентность думских правых, ни бесславный дрейф правительства принять они не могли?
Вот тут-то и подходим мы к реальному выбору, который встал перед ними после пятого года, когда с одной стороны, стало совершенно ясно, что одной лишь политической революцией дело в России не ограничится, а с другой, что никакой Столыпин не русский Бисмарк. Хотя бы потому, что не оказалось в его реформах той внешнеполитической компоненты, которую Бисмарк как раз и ставил во главу угла своей стратегии. Короче говоря, ситуация национал-либералов после 1905-го была в известном смысле неотличима от той, в которой оказалось второе поколение славянофилов после Великой реформы. Тогда тоже ведь в стране, с одной стороны, назревала гражданская война, а с другой, внешняя политика князя Горчакова, т.е. реванш любой ценой, пусть хоть ценою дружбы с Турцией, представлялась славянофилам безнравственной и отвратительной.Читатель помнит, надеюсь, что сделали тогда славянофилы. Они попытались переключить энергию бунтующей молодежи в русло борьбы за освобождение угнетенных братьев-славян и развернули агрессивную кампанию за Балканскую войну. Им казалось, что одним ударом решит такая стратегия все их проблемы. Во-первых, вновь обретут они благодаря ей свое место в стремительно менявшемся политическом спектре; во-вторых, преодолеют в собственных рядах разочарование провалом своей традиционной внутриполитической стратегии. И, в-третьих, наконец, погасят пламя политических страстей в обществе волной патриотической истерии. В этом смысле совпадение полнее. Ничего хорошего, впрочем, тогда из этого славянофильского маневра не получилось. Кончилось все, как помнит читатель, предательством Бисмарка, позорным Берлинским миром и убийством царя.Проблема лишь в том, что, в отличие от вырождающихся славянофилов, скомпрометированных своим эпохальным поражением 1870-х, у национал-либералов начала XX века реальный выбор был. Они ведь могли встать и на сторону альтернативного плана Витте- Розена, предложив таким образом стране внешнеполитический эквивалент столыпинской реформы. Тем более могли национал- либералы встать на позицию Витте, что в этом случае на их стороне были бы после русско-японской войны и генеральный штаб, и вообще все военные профессионалы, работавшие над оборонной стратегией России.
Могли встать на позицию Витте, но не встали. Вместо этого они, в точности повторяя славянофилов, выбрали курс на новую войну. Более того, опирались они при этом на тот же славянофильский миф о «пожирателях славян», которые, говоря словами Скобелева, «сами должны быть поглощены». И даже кампания, которую развернули они в 1900-е, тоже организована была по славянофильским лекалам 1870-х- в преддверии Балканской войны.В апреле 1908 г. в Москве открылось общество Славянской культуры, а затем в Петербурге общество Славянской учености. Среди основателей были, конечно, и Струве, и Милюков. Позднее в Петербурге открылось еще и общество Славянской взаимности. В июле того же года состоялся Славянский конгресс в Праге, в 1910-м еще один в Софии. В оборот был пущен даже термин «неославизм». И разочарование в «братьях-славянах» оказалось столь же непомерным, как и в 1870-е. Выяснилось, например, что славянские депутаты, составлявшие теперь большинство в австрийском парламенте, проголосовали за аннексию Боснии и Герцеговины, ту самую аннексию, что была окрещена в России «дипломатической Цусимой». Даже панславист Григорий Трубецкой сказал в декабре 1909-г0, что зарубежные славяне вспоминают о славянской солидарности лишь когда им это выгодно, преследуя исключительно эгоистические интересы и не пренебрегая закулисными интригами друг против друга. Он, впрочем, объяснял это коварством, унаследованным ими от турок. Но разве это меняло дело? Повторялось-то и вправду все до деталей.Вопрос, который эта «неославистская» вакханалия ставит перед историком, словно бы очевиден. Почему те же люди, которые так безоговорочно стояли за европейские реформы во внутренней политике России, столь же неколебимо встали на контрреформистский и вдобавок еще самоубийственный для страны путь в политике внешней?
По непонятной причине Хоскинг, выдвигая свою версию про-
исхождения «неославизма», даже не заметил этого рокового повторения славянофильской эскапады 1870-х, предлагая взамен нечто разочаровывающе тривиальное. Вот его объяснение. «Октябристы, прогрессисты, кадеты и часто даже умеренные правые националисты искали основание для своей политической позиции, отличное от самодержавного и бюрократического, которые они атаковали. И конечно же нашли они его в русском народе как в источнике авторитета... Настойчивые обращения к народу заставили их во внешней политике и в национальном вопросе занять националистические и панславистские позиции. Они-то и помогли создать такой общественный климат, при котором война против Германии и Австро-Венгрии выглядела приемлемым и даже необходимым инструментом внешней политики»61.
Но остается ведь вопрос, почему, собственно, конституционали- сты-западники были уверены, что «народ» непременно империалист и что Балканы с Константинополем для него «важнее, по словам Гучкова, любых вопросов внутренней политики», включая, стало быть, и вопрос о земле? Откуда они это взяли? И почему усвоили именно славянофильскую версию того, чего «хочет народ», а не, допустим, версию Витте и Розена? К сожалению, Хоскинг этих вопросов даже не ставит.
I Глава девятая
Версия Базарова I КакП^илипегровскуюРоссию
Владил^ир Базаров (Руднев) был одним из самых одаренных идеологов меньшевизма. В двух статьях, опубликованных журналом Современник уже во время войны, в 1915-м, он предложил свою версию происхождения неославизма, прямо противоположную версии Хоскинга. Не в противостоянии самодержавию и бюрократии пришли, по его мнению, либералы-западники к славянофильскому империализму, но империализм обратил их в славянофильство. Вот его логика.
«В настоящий момент либеральная позиция становится явно
61 Ibid.
недостаточной для философского оправдания наших национальных задач... Империализм требует иной санкции, иной модели, иной веры. Философия империализма может быть построена только на убеждении, что именно данный народ, мой народ, есть носитель вселенской правды, что он преимущественно перед всеми прочими призван осуществлять в мире высшие ценности... Вера в исключительную миссию родного народа, в его всемирно-миссионерское, если уж не мессианское призвание - таков должен быть фундамент философии империализма»[130].
Кто же в России, спрашивается, исповедывал подобную веру? Естественно, полагал Базаров, «прочную почву под ногами чувствует теперь только славянофильское течение нашей общественной мысли... Выступая наследником старого славянофильства, подновленного задолго до войны трудами небольшой, но энергичной группы московских философов и публицистов, оно встретило идейные запросы войны на заранее подготовленных и хорошо укрепленных позициях... Внушительно, величаво, с нескрываемым торжеством приветствовал патриарх школы С.Н. Булгаков военную катастрофу как начало конца новоевропейской культуры. Истинность старовизантийского мировоззрения, призванного обновить гибнущую Европу, была давно уже провозглашена - историческая миссия русского народа как единственного носителя этой истины, давно уже поставлена вне сомнения. Для того чтобы довершить метафизическое оправдание войны, оставалось сделать очень немногое, а именно: объявить французов и англичан кающимися европейцами или, по крайней мере, способными приблизиться к покаянию под благодетельным воздействием союза с нами, - а в германизме, наоборот, усмотреть самое законченное и непримиримое выражение новоевропейского духа»[131].
Тут, конечно, ошибка. Ибо эту операцию по отлучению германизма от лика «белого человечества» проделали, как помнит читатель, еще в конце 1880-х, т.е. задолго до войны, в разгар контрреформы Сергей Шарапов и его Русский голос. Так что тут речь могла идти
лишь о подведении московским кружком «национально ориентированных» философов (т.е.веховцами) метафизического, так сказать, фундамента под милитаристский энтузиазм третьего поколения славянофилов.
И потом вовсе не был в ту пору империализм монополией России. Он был тогда феноменом общеевропейским. Почему же в таком случае не породил он ничего подобного славянофильствующему мессианизму в других воюющих державах? К этому вопросу Базаров, был, впрочем, готов. И ответил на него хоть и пространно, в духе времени, но с исчерпывающей полнотой.
«Вовсе не обязательно, - пишет он, - видеть в своем народе носителя своеобразной культуры... И немецкие, и французские, и английские империалисты считают себя детьми общеевропейской цивилизации. Но немец убежден, что его народ единственный жизнеспособный представитель Европы, тогда как англичане и французы уже выродились; англичанин смотрит на немецких империалистов как на задорных выскочек, неспособных к усвоению элементарных начал здравой общественности и разумной колониальной политики; француз думает, что все прочие народы, каковы бы ни были их внешние успехи, все же более или менее варвары, что подлинный дух европейской цивилизации обитает только во Франции, в ее сердце - Париже, откуда и должен излучаться по всему миру. Для нас аналогичная точка зрения неприемлема»64.