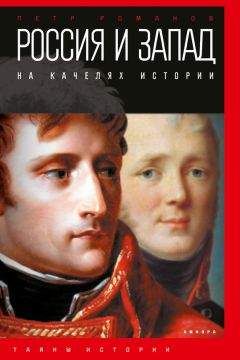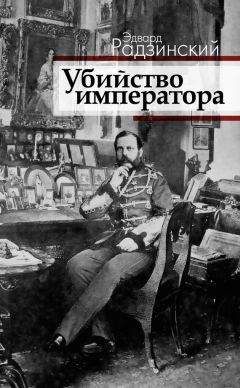Тут, конечно, ошибка. Ибо эту операцию по отлучению германизма от лика «белого человечества» проделали, как помнит читатель, еще в конце 1880-х, т.е. задолго до войны, в разгар контрреформы Сергей Шарапов и его Русский голос. Так что тут речь могла идти
лишь о подведении московским кружком «национально ориентированных» философов (т.е.веховцами) метафизического, так сказать, фундамента под милитаристский энтузиазм третьего поколения славянофилов.
И потом вовсе не был в ту пору империализм монополией России. Он был тогда феноменом общеевропейским. Почему же в таком случае не породил он ничего подобного славянофильствующему мессианизму в других воюющих державах? К этому вопросу Базаров, был, впрочем, готов. И ответил на него хоть и пространно, в духе времени, но с исчерпывающей полнотой.
«Вовсе не обязательно, - пишет он, - видеть в своем народе носителя своеобразной культуры... И немецкие, и французские, и английские империалисты считают себя детьми общеевропейской цивилизации. Но немец убежден, что его народ единственный жизнеспособный представитель Европы, тогда как англичане и французы уже выродились; англичанин смотрит на немецких империалистов как на задорных выскочек, неспособных к усвоению элементарных начал здравой общественности и разумной колониальной политики; француз думает, что все прочие народы, каковы бы ни были их внешние успехи, все же более или менее варвары, что подлинный дух европейской цивилизации обитает только во Франции, в ее сердце - Париже, откуда и должен излучаться по всему миру. Для нас аналогичная точка зрения неприемлема»64.
Почему неприемлема? Потому, полагает Базаров, что «не будучи ни в какой области первосортными представителями европейской цивилизации, мьидля обоснования своего наступательного национализма, естественно, должны поискать другие мотивы. Если у нас есть какая-нибудь всемирно-историческая миссия, оправдывающая наши империалистические притязания, то она может заключаться лишь в осуществлении таких духовных ценностей, которые нам присущи несмотря на нашу всестороннюю отсталость от Европы и, быть может, именно благодаря ей. Наше национальное призвание должно состоять в культивировании начал, Европе чуждых, Европой обойденных или незамеченных или даже прямо ей враждебных»[132].
Вот почему никакая другая постановка вопроса, кроме славянофильской, не может привести к построению удовлетворительной философии русского империализма, «славянофильство есть единственное теоретическое решение задачи... Я говорю, конечно, не о частных взглядах тех или иных славянофилов, а лишь об основном принципе их национальной философии, об их общей вере в существование и величие антиевропейской миссии русского народа. Под это знамя рано или поздно вынужден будет стать всякий русский национал-либерал, способный философски обосновать свою программу». Практически говорит здесь Базаров то же самое, что Грамши, разве что не называет это «идеей-гегемоном».
Но «когда для него [т.е. для русского национал-либерала] выяснится, заключает Базаров, бесплодность попыток защитить «правду» русского империализма в стиле западноевропейских образцов, его западнические симпатии потускнеют сами собой, традиционная враждебность к родному византизму растает, как дым, а идея культурной равноценности всех наций покажется такой же «банальной» и «плоской», такой же безжизненной и надуманной, как и космополитизм «безнародной русской интеллигенции»[133].
Это, конечно, замечательно остроумный анализ. И Базаров безусловно прав, указывая на шаткость, неустойчивость постниколаевского русского западничества, его податливость соблазну «национальной ориентации». Тем не менее страдает его версия той же странной для историка внеисторичностью, если можно так выразиться, что и версии Хатчинсона и Хоскинга.
Как всякий социал-демократ, Базаров имел в виду под «империализмом» период конца XIX - начала XX века, когда не иметь колоний считалось столь же неприличным для европейского государства, как сегодня для американского дантиста не иметь, скажем, автомобиль марки «мерседес». Именно в такую эпоху и именно в связи с невозможностью рационально оправдать империализм, полагает
он, западничество в России обречено капитулировать перед славянофильством как единственно последовательной философией империализма.
Чем же, однако, назвать попытку Наполеона завоевать Европу еще за столетие до социал-демократического «империализма»? Или крестовый поход Николая 11853 года, целью которого был не только насильственный раздел наследства «больного человека Европы», как царь именовал Турцию, но и установление российской гегемонии над той же Европой? Что это было, если не империализм? А завоевание Кавказа и Средней Азии во второй половине XIX века? Чем было оно? Короче, начиная с 177°-*, с раздела Польши, Россия жила практически непрерывно в ситуации империализма. Императрица Екатерина даже пошутила однажды, что не знает другого способа защитить границы империи, кроме того, чтобы их расширять.
И что же? Ну, допустим, декабристы не могли капитулировать перед славянофильской философией просто потому, что в их время ее еще не существовало. Но ведь не капитулировали же перед славянофильским империализмом ни Чаадаев, ни Белинский, ни Герцен, ни целые поколения воспитанной ими российской молодежи. Так почему, спрашивается, оказались русские западники столь беспомощны (в философском, конечно, смысле) именно в начале XX века? Почему капитулировали они перед славянофилами именно теперь - накануне роковой для России войны?
Дело не в том, что нет на это ответа у Базарова, а в том, что сам вопрос даже не пришел ему в голову. Если он хотел сказать, что патриотизм в России, а следовательно западничество, еще со времен поражения декабризма и диктатуры Официальной Народности был уязвим для националистического соблазна, то ведь Владимир Соловьев это уже сказал - и сказал притом, как мы слышали, с куда большей силой - еще за три десятилетия до войны. А если Базаров привязывает эту уязвимость русского западничества именно к условиям мировой войны, то следовало бы объяснить, каким образом открыл ее тот же Соловьев еще во времена, когда войны этой
16 Янов
и в помине не было? Как видит читатель, противоречий хватает и у базаровской версии происхождения неославизма - при всей ее проницательности и остроумии.
Глава девятая
Версия Кожинова губилиw^w*
В.В. Кожинов, подобно Дугину сегодня, был одним из самых неутомимых - и плодовитых - популяризаторов евразийства. И в то же время своего рода связующим звеном между евразийством и черносотенством. В том, собственно, и состояла, надо полагать, его жизненная задача, чтобы помирить две эти враждовавшие между собою ветви постсоветского национализма. И задача эта была непростая: расхождения между ними серьёзные. Например, для евразийцев «еврейский вопрос» третьестепенный, а для черносотенцев - центральный.
Однако для опытного конспиролога, как Кожинов (или Дугин), найти точку соприкосновения между ними - не проблема. Ведь во всем, что в мире происходит, и те и другие видели одно и то же: заговор против России. Вопрос лишь в том, кто этот заговор возглавляет. Кожинов предложил на эту должность масонов - и все тотчас встало на своё место. Ибо, по его мнению, «черносотенцы осознавали присутствие и мощное влияние масонства в России»67. А для евразийцев именно масонство, почему-то олицетворявшее всю предательскую, «объевропеившуюся» послепетровскую элиту, и было центральной причиной крушения петербургской России.
На этом Кожинов и играл, объясняя, почему как раз «российское масонство XX века явилось решающей силой Февраля» (т.е. февральской революции 1917, которая избавила, наконец, Россию от «сакрального» самодержавия и с момента которой числит он, как все черносотенцы, «гибель Русского государства»68. Потому, оказывается, что «скрепленные клятвой перед своим и, одновременно, высокоразвитым западноевропейским масонством, эти очень разные, подчас, казалось бы, совершенно несовместимые деятели - от
Кожинов В.В. Черносотенцы и Революция. М., 1998. С. 13 Там же. С. 138
октябристов до меньшевиков - стали дисциплинированно и целеустремленно осуществлять единую задачу. В результате был создан своего рода мощный кулак, разрушивший государство и армию»69. И дальше: «так называемое двоевластие после Февраля было весьма относительным, в сущности, даже показным: и в правительстве и в Совете заправляли люди одной команды»70.
То, что утверждает здесь Кожинов, без сомнения повергло бы в шок и Хатчинсона, и Хоскинга, и вообще всякого, кто хоть сколько- нибудь причастен к изучению Катастрофы. Выходит ведь, что министры-капиталисты, как Гучков или Коновалов, ратовавшие за конституционную монархию, вместе со своими непримиримыми оппонентами, республиканцами и социалистами, как Керенский или Чхеидзе, дружно занимались «разрушением государства и армии» своей страны. И разрушали они их вовсе не бессознательно, не ведая, что творят, подчиняясь императивам общей идейной атмосферы тогдашней России (что было бы согласно с теорией «идеи- гегемона» Антонио Грамши), но сознательно, «дисциплинированно и целеустремленно». Временное правительство и Совет рабочих депутатов, яростно оспаривавшие друг у друга власть в Петрограде, работали, оказывается, «в одной команде».