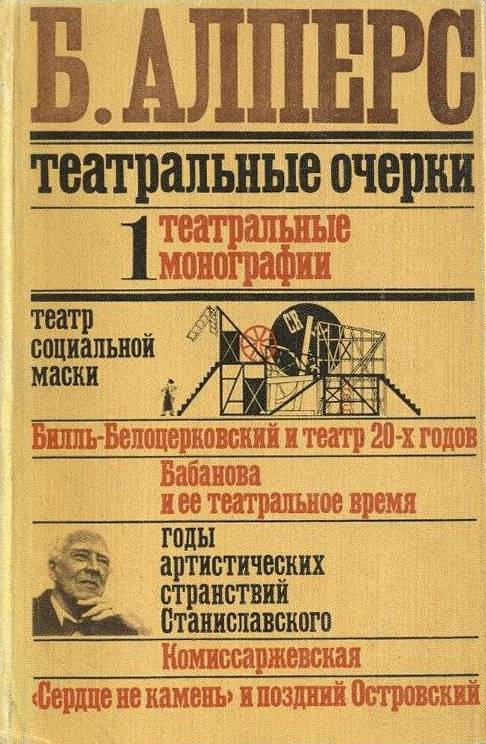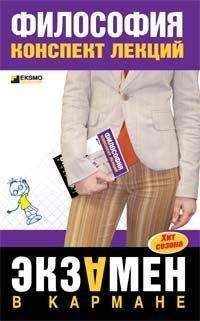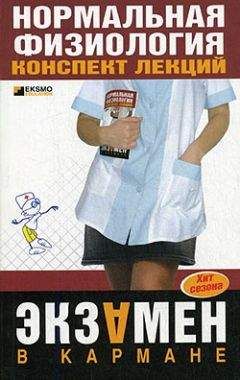иначе вовлечена в то зрелище, которое предстает взгляду зрителя картины. А художник намекает на свою причастность тому, что он нам показывает. Ведь отнюдь не только в автопортретах, выполненных перед зеркалом, Рембрандт выступает одновременно действующим лицом и зрителем, если вспомнить слова Хоогстратена. Это справедливо по отношению к любой картине, где труд наложения краски на холст столь же явственен и заметен, как здесь. Сама живопись становится частью действа, разворачивающегося на наших глазах. Однако в данном случае можно говорить о еще более значительном участии автора в создании зрелища. Ведь именно рука художника запятнала кровью грудь Лукреции, чтобы и он, и мы могли увидеть, как она умирает. Ее вымышленное самоубийство на холсте было делом рук художника
(ил. 116).
Связь между живописью и бренностью плоти обнаруживается не только на этой картине, да и открыл ее не Рембрандт. В таких его картинах, как «Воловья туша» (ил. 117), «Девочка с мертвыми павлинами» (ил. 118), «Автопортрет с подстреленной выпью», «Урок анатомии доктора Тульпа» (ил. 22) и «Урок анатомии доктора Деймана» (Br. 414), различим мотив телесной бренности, характерный для западных ренессансных изображений смерти. Подобно Тициану в «Наказании Марсия» и Томасу Икинсу в «Клинике доктора Гросса», Рембрандт в этих работах отождествляет художника с персонажем (мясником, охотником, хирургом), чья роль заключается в том, чтобы разрезать тело и погрузить в него руку [184]. Непосредственное соседство живого персонажа, мужчины или женщины, с щедро выставленной напоказ разъятой плотью или распущенными перьями мертвой птицы – как, например, в «Воловьей туше» и в «Автопортрете с подстреленной выпью» – позволяет предположить, что Рембрандт отождествлял себя и с убийцей, и с жертвой. Кроме того, одной из отличительных черт рембрандтовской «грубой манеры» можно считать всячески подчеркиваемое ею родство тела, изображенного при помощи живописи, и реальной человеческой плоти. В основе ряда поздних картин, в частности «Воловьей туши», «Клятвы Клавдия Цивилиса» и, особенно, портретов и автопортретов с их запоминающимися физиономиями, лежит представление о том, что запечатленное рельефными мазками густой краски одновременно находится в состоянии распада, разложения (ил. 4, 117). Прикосновение руки мастера оборачивается здесь своей темной стороной.
В Испании той эпохи такого рода «грубую» живопись именовали словом borrón, которое могло означать «пятно» или «кляксу» (глагол borrar имел значение «стирать», «уничтожать», а существительным borrador обозначался набросок некоего текста, черновик). Тем самым подчеркивалось, что речь идет о чем-то неряшливом, что оставляет пятно на чести человека или умаляет красоту картины. В одной из пьес Лопе де Веги замужняя дама, чьей чести домогается король, перед тайным свиданием прижигает кожу. При приближении короля она сбрасывает с себя одежды, обнажая изуродованное тело, и король восклицает: «О прелестный покров, таящий следы зловещего деяния! О созданный искусным художником образ, вблизи предстающий отвратительным пятном (borrón)!» Рембрандта можно назвать одним из тех живописцев, которые и не пытались скрыть эти «следы». Его поздние полотна обнажают печать позора (насилия?), присущую образу человеческой плоти, сотворенному нерепрезентативными и нерациональными мазками краски [185].
Характерные черты поздних картин Рембрандта ко времени смерти мастера хорошо известны и неоднократно отмечались знатоками. Абрахам Брейгель, один из представителей знаменитого фламандского семейства художников и отдаленный потомок Питера Брейгеля, выступал в качестве агента Руффо, сицилийского коллекционера, заказавшего Рембрандту «Аристотеля». В письме 1670 года он аттестовал Рембрандта своему работодателю как автора картин с полуфигурами в причудливых костюмах, у которых освещен только кончик носа, а всё остальное теряется в тени [186]. Это точное, хотя и не слишком доброжелательное описание. Однако такие произведения создавались Рембрандтом не для того, чтобы своенравно ниспровергнуть существующие правила, а чтобы утвердить художественную практику своей мастерской.
В первой главе я выдвинула гипотезу, объясняющую почти физический эффект присутствия написанных Рембрандтом фигур как результат его стремления создать из краски материальный объект. Но дело не только в этом. Несмотря на то что фигуры на картинах позднего Рембрандта часто описывают как выступающие из тьмы, возможно, более справедливо противоположное мнение. Рембрандт сосредоточивался на лице и шее (в меньшей степени – на руках) своих моделей. Именно на этих подробностях он заставляет нас фокусировать взгляд, именно в них – пристально всматриваться, тогда как периферийные детали картины остаются неотчетливыми. В первую очередь для Рембрандта важна фигура, а не окружающее ее пространство. Тенденция, возникшая в рамках более традиционной портретной живописи тридцатых годов, последовательно развивалась и к пятидесятым сделалась характерной чертой всех его работ [187]. В ней отражена склонность к особому типу созерцания. Рёскин в свое время рекомендовал придавать картинам круглую форму, с его точки зрения идеальную – но не потому, что круг представляет собой совершенную геометрическую фигуру, а потому, что он ближе всего соответствует области, охватываемой человеческим глазом [188]. Для Рёскина, как и для Рембрандта, рама – не окно и не общий план композиции, а своего рода маркер, указывающий на неизбежную ограниченность взгляда. Периферийная область для Рембрандта всегда второстепенна – будь то непрописанный фон позади фигуры Трипа, смутные очертания грота за спиной у женщины, входящей в воду, на картине из лондонской Национальной галереи, ткани, на фоне которых сидит Вирсавия, или стена, на которой висят картины, на парных портретах из Нью-Йорка (ил. 124, 125). Значимую роль в том визуальном впечатлении, которое производят поздние картины мастера, играет их размер, то есть тот факт, что фигуры написаны в человеческий рост или чуть меньше. В сюжете всех его поздних произведений соединены изображение человеком самого себя и взгляд художника на эту самопрезентацию.
На гравюре, созданной около 1639 года и известной под названием «Художник, рисующий модель» (В. 192), перед нами предстает интерьер мастерской (ил. 79). В ней царит откровенный беспорядок: посреди загромождающих студию одеяний, доспехов, мебели и скульптур лицом к лицу – художник и натурщица. Хаос, создаваемый обилием предметов, совершенно нехарактерен для работ Рембрандта, а наша точка зрения – весьма необычная, поскольку мы смотрим на эту сцену из-за спины модели, в свою очередь оглядывающейся на художника, согнувшегося в три погибели над листом бумаги, – подчеркивает: перед нами то, что обыкновенно остается «за кадром». Пустой холст позади художника и незавершенность некоторых участков по-своему напоминают о «сгущении», трансформации материи, необходимых для создания изображения. Нейтральный, неопределенный фон, который на поздних картинах Рембрандта обретает красноречивый облик холста, выцветающего вокруг изображаемой фигуры, словно «изымает» натурщика/натурщицу из обстановки реальной мастерской и превращает ее в пространство репрезентации самого акта позирования.
Фотографии XIX века могут служить свидетельством того, что Рембрандта продолжали воспринимать именно так. Рембрандтовский студийный фон, одновременно и отсутствующий, и смутно различимый на