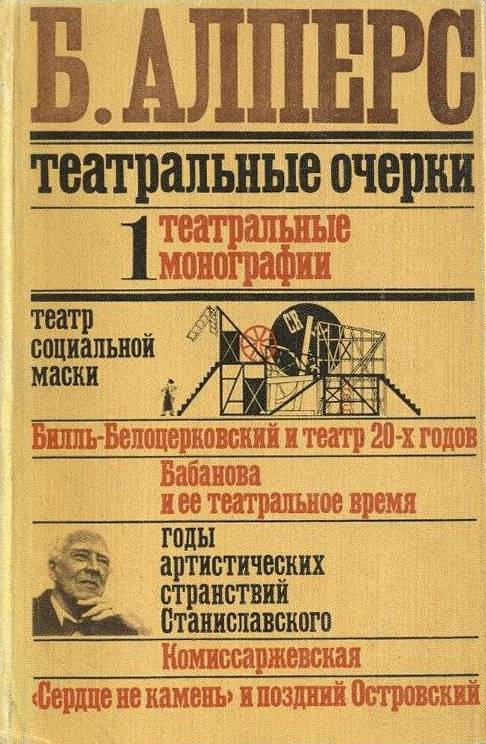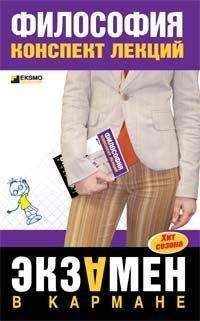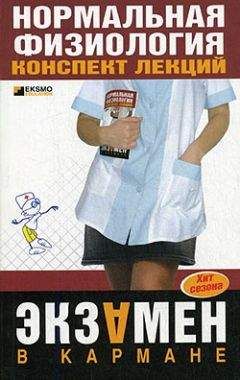картине, изъятый из внешнего мира и позволяющий сосредоточиться на портретируемом, чрезвычайно привлекал авторов портретных фотографий XIX века. Подобное описание свидетельствует не только о визуальной, но и о «практической» притягательности произведений Рембрандта. В XIX веке его картины были необычайно популярны, а его именем обозначали различные живописные эффекты и художественные приемы: существовали портреты в стиле Рембрандта, рембрандтовское освещение, рембрандтовский метод печати, всевозможные рембрандтовские аксессуары. А его характерное кьяроскуро рекомендовали в качестве основного композиционного приема при работе с материалом, располагавшим ограниченными возможностями приковывать к себе взор зрителя. Однако с именем Рембрандта связаны также постановочные манипуляции, предшествовавшие самому процессу фотографирования. Создать некую лирическую атмосферу, наделить особым настроением образ, получаемый сугубо механическим способом с натуры, было отнюдь не простой задачей. Фотографы обставляли съемку портрета как театральное действо: через приемные, в которых висели фотографии прежних посетителей мастерской, заказчиков провожали в «операционную» (operating room), где и делали портретный снимок. Таким образом фотографы инсценировали фрагмент «жизни» – подобно тому, как это делал Рембрандт в своей мастерской [189].
В XVII веке вся живопись создавалась в мастерской. Каждая картина представляла собой «студийный продукт». В принципе, здесь не было ничего нового. Однако именно в эту эпоху живописцы стали обыгрывать саму ситуацию создания картины – изображать отношения художника и его модели (моделей) в пространстве интерьера. Хотя сохранилось немало рисунков, выполненных как самим мастером, так и его учениками, запечатлевших работу в студии, а также большое число выполненных в разных техниках автопортретов, на которых Рембрандт показал себя за работой, он так и не написал масштабной картины наподобие «Искусства живописи» Вермеера или «Менин» Веласкеса. Зато мастерская с ее обстановкой присутствует в самой форме, в манере его поздних картин. Если Веласкес писал заказчиков портрета – королевскую чету во дворце, где он жил и работал, а Вермеер – молодую женщину в домашней обстановке, призванную воплощать яркость и ускользающую прелесть видимого мира, то Рембрандт работал так, словно был режиссером театральной труппы. Его поздние картины можно считать эквивалентом «пьес для чтения», созданным средствами живописи.
Мы рассмотрели мастерскую как пространство, позволяющее создавать определенные образы. Однако студия стала для Рембрандта пространством плодотворных творческих экспериментов еще и потому, что именно в ней он мог контролировать и жизнь, и искусство. Именно над этой областью он властвовал безраздельно. Интересным примером его отношения к жизни и искусству может служить «Клятва Клавдия Цивилиса» (ил. 4, 121). В искусствоведении XX века стало общим местом высказывать сожаление по поводу трагической судьбы, постигшей этот важный заказ. Подразумевается, что, когда эту гигантскую картину вынесли из стен новой амстердамской ратуши, Рембрандт и мы, ценители его работ, потеряли великое, монументальное произведение искусства (изначально полотно представляло собой квадрат 579 × 579 см; ныне его размеры составляют 182 × 305 см) [190]. Рембрандту заказали изобразить на холсте клятву, которую батавы приносят своему предводителю, замыслившему восстание против Рима. Судя по сохранившемуся небольшому рисунку, в исходном виде композиция Рембрандта напоминала композицию «Афинской школы» Рафаэля, то есть произведения искусства, воплощающего порядок, долженствующий царить и в природе, и в обществе (ил. 120, 121). На фреске Рафаэля Платон и Аристотель притязают на познание тайн земли и неба в архитектурных декорациях, весьма сходных с теми, что избрал Рембрандт. Но каким образом он использовал эту композицию при решении своей задачи? Отказавшись от всякого антуража, оставив только стол, а также сосредоточившись на участниках заговора, Рембрандт по форме и замыслу приблизил «Клятву Клавдия Цивилиса» к другим своим работам. Рафаэлеву идею публичного порядка – как в государстве, так и в искусстве – Рембрандт отверг, уничтожил вместе с архитектурным фоном. (Ранее, для достижения сходного эффекта, копируя гравюру по «Тайной вечере» Леонардо, он точно так же «отбросил лишнее» и свел композицию к застольной сцене с ее многочисленными персонажами, – ил. 101.) Можно представить себе, как Рембрандт, подобно режиссеру, ставил эту сцену, которую разыгрывала его театральная труппа. Несомненно, что, будучи извлечена из люнета – а значит, уже не находясь высоко над головой зрителя, – эта картина стала восприниматься совершенно иначе. Обрезав и переписав полотно, Рембрандт заменил воплощение государства плотью картины. Государственные дела уступили место работе художника в студии. А само изувеченное произведение искусства, с его многократно перерабатывавшимся красочным слоем, на котором рельефные мазки отчетливо видны с близкого расстояния, вновь вернулось под власть Рембрандта [191] (ил. 4).
Такой контроль над собственной студией, которую он считал сферой своей полной, безраздельной власти, Рембрандт распространял и на заказчиков, изображенных на портретах. Как мы видели на примере «Еврейской невесты» (ил. 1), Рембрандт прибегает к своей характерной технике, размывая границы между портретированием своих современников и изображением исторических персонажей. Однако мы можем выразить это соотношение иначе, сказав, что Рембрандт стирает грань между теми, кто платит, чтобы получить свое изображение, и теми, кому платят за позирование. Подобная формулировка позволяет лучше понять, как Рембрандт обеспечивал себе роль безраздельного властителя в пределах своей мастерской. Необходимо признать, что в случае с «Еврейской невестой» мы не можем установить точно природу договора: заплатил ли Рембрандт изображенной чете за позирование или за это изображенные заплатили мастеру? Различие между Рембрандтом, особенно в его поздние годы, и другими голландскими художниками состоит в том, что Рембрандт утаивает информацию. Историки искусства в целом склонны полагать, что Рембрандт размывает границы между жанрами, в итоге придавая чете, запечатленной в «Еврейской невесте», бо́льшую «возвышенность» и «благородство», то есть бо́льшую значительность и более универсальные черты. Он превращает портрет в нечто большее, поднимая портретный жанр на другой уровень. Однако подобного эффекта универсальности он добивается благодаря маскировке и сокрытию экономических и социальных основ сделки между художником и его моделями. Корни того, что мы стали рассматривать как проблему интерпретации, таятся в рембрандтовской художественной практике.
Сравним изображенную Рембрандтом чету с другой: величественная осанка и официальная поза, тщательно выписанные черты, само положение на фоне пейзажа недвусмысленно говорят о том, что, несмотря на экзотические одеяния, чета, запечатленная Болом, – это конкретная голландская пара, позирующая для портрета (ил. 123). В самом деле, перед нами предстают будущая вторая жена Бола и ее первый муж, изображенные, согласно описи ее имущества, в образе библейских персонажей – Исаака и Ревекки [192]. Сравнение с рембрандтовской «Еврейской невестой» напрашивается само собой. Очевидно, что заказчики заплатили Болу, чтобы он их написал. Они позируют художнику, но они не играют роль. Многим поздним картинам Рембрандта свойственна экспрессивность, некое подобие живописной непосредственности в сочетании с рассчитанной, точно выверенной неопределенностью одеяний и фона: здесь