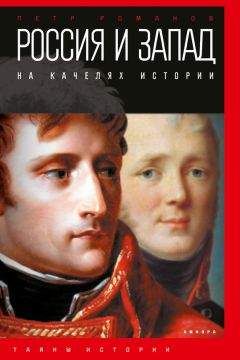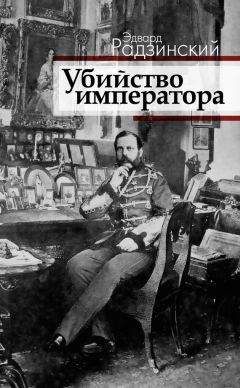И за громом этой полемики прошло как-то почти незамеченным, что по категорическому установлению правительства «власть над личностью крестьянина сосредоточивается в мире», т.е. в поземельной общине (той самой, заметим в скобках, от которой полвека спустя попытался освободить крестьян Столыпин). Иначе говоря, и освобожденный от помещика крестьянин оставался по-прежнему крепок земле и деревне и категорически чужд частной собственности. Разница была лишь в том, что, как объясняет историк, «веете госу- дарственно-полицейские функции, которые при крепостном праве выполнял даровой полицмейстер, помещик» 7, исполнять теперь должна была община.
Вот как мотивировал это в письме императору Яков Ростовцев, тот самый николаевский генерал, который, как помнит читатель, учил в свое время российского обывателя, что совесть ему заменяет высшее начальство, а теперь оказался во главе крестьянского освобождения: «Общинное устройство ... в настоящую минуту для России необходимо. Народу нужна еще сильная власть, которая заменила бы власть помещика»28. Совершенно же очевидно здесь, на какую именно роль предназначался крестьянский мир. И это в то самое время, когда и Наполеон III, и Бисмарк вводили в своих империях всеобщее избирательное право.
В постниколаевской России об этом и речи быть не могло. Не только отказано было большинству её населения в участии в делах государственных - в глазах закона крестьянин вообще оставался мертв. Он по-прежнему не был субъектом права или собственности, индивидом, человеком, если угодно. Субъектом был «коллектив», назовите его хоть миром, хоть общиной, хоть колхозом. Просто из- под полицейской опеки помещика его передали под опеку средневекового «коллектива». И пороть его тоже можно было по-прежнему, разве что теперь не по воле барина на господской конюшне, но на той же конюшне - по постановлению мира, в котором, опять-таки как
ИР. Вып. ю. С. 141 (выделено мною - А. Я.).
в средние века, царствовала круговая порука.
«Сознавая многие неудобства круговой поруки, которая ставит крестьянина в слишком большую зависимость от мира, - объяснял царю тот же Ростовцев, - мы приняли её как неизбежное зло, так как при существующем общинном владении землею она составляет главный способ обеспечения повинностей»29. Таким образом, и сам «коллектив», в рабстве у которого оставался крестьянин, имел для государства значение чисто фискальное: «поземельной общине могут быть предоставлены лишь те хозяйственные меры, которые истекают из самого существа круговой поруки». Мудрено ли, что историк реформы так комментировал это коллективное рабство: «мир, как община Ивана Грозного, гораздо больше выражал идею «государева тягла», чем право крестьян на самоуправление»30?
Конечно, позади были поколения этого «государева тягла». Но последствия того, что Великая реформа не только не использовала постниколаевские десятилетия, чтобы начать разрушение этих «тягловых» пережитков в сознании крестьянства, но и принялась укоренять их, оказались поистине роковыми для будущего страны. Тем более, что преуспела она в этом укоренении катастрофически. До такой степени, что и в 1917 году эсеровская аграрная программа, присвоенная, как известно, большевиками, категорически требовала отказа от столыпинских реформ. Другими словами, от частной собственности на землю. Иначе говоря, крестьянство было так надежно отучено от самоуправления и ответственного хозяйствования, что само просилось в общинное рабство. Но и это еще не всё.
Там же.
Глава четвертая Ошибка Герцена
Странным образом
никто не обратил внимания властей и общества, что лишение крестьянина прав личности в тот самый момент, когда городское «образованное» общество эти права как раз и обретало, было не только нелепым парадоксом. Оно было чревато пугачевщиной. Ибо страшно углубляло пропасть между двумя одновременно существовавшими Россиями - современной и средневековой; той, что наделялась правами человека (включая право собственности), и той, что этих прав лишалась; «образованной» и той, что, по словам молодого Сперанского, «считало чтение грамоты между смертными грехами». Короче, увековечивало «власть тьмы» над подавляющим большинством русского народа.
Вопрос о воссоединении России, расколотой крепостным рабством, главный из всех, поставленных перед страной декабристами, был забыт напрочь. Бывшие национал-либералы, задававшие тон Великой реформе, не заметили, что бок о бок с ними жила другая полуязыческая Россия - с другими представлениями о справедливости, о собственности и даже о мироздании. Мало того, еще и прославляли эту другую, «темную», Россию как залог неевропейского будущего страны. Между тем главенствовала, как выяснилось чуть позже, в представлениях этой другой России именно идея «отнять и разделить помещичьи земли» вкупе с мечтой, что придет день мести и расплаты за ужасы крепостного права. И день этот будет страшен.
Гетто
Наследник декабристов Герцен хорошо понимал это, когда писал, что «в передних и в девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи страшных злодейств; воспоминание о них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую и беспощадную месть, которую остановить вряд ли возможно будет»31. Ни о чем таком ни на минуту не задумались архитекторы Реформы, национал-либералы. Ради немедленных фискальных выгод они углубляли пропасть, которой так страшились в свое время декабристы, сжигая таким образом мосты между двумя Россиями - петровской и московигской. И чревато это было большой кровью, гражданской войной и новым «выпадением» из Европы.
Хотя бы потому, что в момент, когда пробьёт час самодержавия и «национально-православная ментальность» русского народа окажется вдруг на поверку «национально-атеистической», неминуемо ведь должны будут схватиться между собою два диаметрально противоположных представления о частной собственности. И поскольку крестьянская московитская Россия неизбежно подавит самой своей чудовищной массой городскую частнособственническую, какая новая государственность, спрашивается, должна будет в стране воцариться? Не московитская ли, отрицающая права человека? Или, проще говоря, не большевистскую ли Россию готовили пореформенные славянофилы, отчаянно отстаивавшие сельскую передельную общину, не знавшую ни прав человека, ни частной собственности?
Не чужд этой мысли, похоже, и современный политолог В.В. Лапкин, когда говорит, что «не решаясь на глубокую и последовательную революцию сверху, [пореформенная] власть спровоцировала радикальную революцию снизу... И основу мобилизационного ресурса этой антирыночной и разрушающей отношения частной собственности революции готовили протестные настроения крестьянства, сориентированные на уничтожение института частной собственности»32.
Ну, допустим, о будущем не думали. Но ведь и в самом непосредственном настоящем что могло из этого получиться, кроме гигантского гетто для крестьян, где, в отличие от стремительно европеизирующегося городского общества, преспокойно продолжали функционировать средневековые установления? Где не только отсутствовала частная собственность, но и самого крестьянина как частного лица вроде бы и не существовало - во всяком случае в глазах закона? Где накапливался такой заряд ненависти к образованному обществу, который обещал в один трагический день разнести его на куски?
www.liberal.ru
. 2006. 15 апреля.
Орвеллианский мир постниколаевской России
Самое в этом парадоксе удивительное - за редчайшими исключениями современники его совершенно не замечали. Не только славянофилы, которые составляли большинство в редакционных комиссиях, готовивших крестьянскую реформу, и под чьим влиянием это коллективное рабство, собственно, и стало законом, но и их оппоненты. Когда Б.Н. Чичерин заметил, что «нынешняя наша сельская община вовсе не исконная принадлежность русского народа, а явилась произведением крепостного права и подушной подати», он, главный, пожалуй, в тогдашней России знаток истории отечественного права, тотчас и оказался изгоем. Что славянофилы заклеймили его русофобом, «оклеветавшим древнюю Русь», было в порядке вещей33. Но ведь и западники не защитили.
Глава четвертая Ошибка Герцена
Вот вам и вторая загадка постниколаевской России: как могли серьёзные, умные, ответственные люди допустить такую нелепую ошибку? В том-то и дело, однако, что ошибкой покажется это лишь тем, кто не знает, что крестьянская община была второй (после самодержавия) священной заповедью славянофильского символа веры. Удивительно ли, что стали они за нее грудью, едва падение николаевской диктатуры превратило их из гонимой диссидентской секты в одну из самых влиятельных фракций нового, пореформенного истеблишмента? А если учесть, что именно славянофилы задавали тон в редакционных комиссиях, готовивших реформу, они без особого труда навязали свою излюбленную идею не только правительству, но даже и западникам.