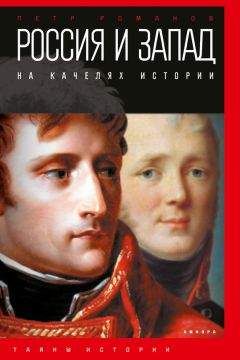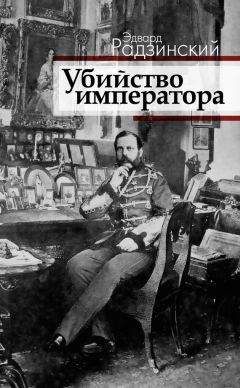Право, лишь феноменальным историческим невежеством, лишь тем, что российская историография не исполнила своего долга перед обществом, можно объяснить популярность в перестроечные времена мифа о благословенной «России, которую мы потеряли». Или сегодняшние проповеди Нарочницкой и Холмогорова. Даже беглого взгляда на реальную историю достаточно, чтобы убедиться: «Россия, которую мы потеряли», была не только обречена. Она обусловила жестокость той диктатуры, которая за нею последовала.
^ S I Глава четвертая
иоъяснение | Ошибка Герцена
с читателем
Разумеется, эти краткие заметки нисколько не претендуют на решение загадки постниколаевской России. Предназначены они лишь для того, чтобы поставить эту проблему перед молодым поколением российских историков и вообще перед сегодняшними «производителями смыслов» именно как загадку. Иными словами, как нерешенную задачу. Подчеркнув, насколько важно ее решение не только для прояснения прошлого страны, до крайности замутненного сегодня политическими страстями, но и для её будущего.
Для меня же этот генезис пореформенной России важен лишь как исторический фон для рассказа о роковой ошибке Герцена. Дело втом, что задолго до «большого взрыва» 1917-го и словно предрекая его, еще в разгар Великой реформы, пришлось, как мы уже говорили, самому блестящему из русских либеральных мыслителей испытать силу одной из только что описанных «мин» на самом себе. И в
Quoted in Lincoln W. Bruce. In the Wanguardof Reform. Northern Illinois University Press.
1982. P. 85.
Вестник Европы. 1909. №1. С. 9.
этой его политической драме заложена была вся будущая трагедия постниколаевской России.
Оснований для ошибки Герцена было, мне кажется, три. Во-пер- вых, он, как помнит читатель, никогда не принимал всерьез Официальную Народность. Для него она всегда была лишь полицейским фарсом, лишь предсмертной агонией ненавистной ему военной империи. Короче, не заметил он, что николаевская диктатура не только на три десятилетия накрыла страну жандармской шинелью, но и на многие поколения вперёд «испортила» её религиозной нетерпимостью, противопоставлением Европе и сверхдержавным соблазном. О второй ошибке, касающейся самой природы этой болезни, которая так и осталась для Герцена непонятной, мы поговорим подробнее в заключение этой главы.
Сейчас скажу лишь, что из первой, естественно, вытекала и третья ошибка. Для Герцена (как сегодня для пана Пшебинды) Великая реформа была началом выздоровления России, а вовсе не увековечиванием болезни. Реформой, полагал он, страна хоронила николаевское идейное наследство, а не консервировала его. К несчастью, все на самом деле было, как мы сейчас увидим, наоборот.
Глава четвертая
два взгляда ошмбк* на империю
Так или иначе, единодушный вос-
торг, вызванный в российском обществе жестоким подавлением польского восстания 1831 года, счел Герцен вовсе не грозным симптомом укореняющейся сверхдержавной болезни, но, скорее, анекдотом. Он описал смехотворность этих казенных восторгов: «Я был на первом представлении «Ляпунова» и видел, как он засучивает рукава и говорит что-то вроде «Потешусь я в польской крови». Глухой стон отвращения вырвался из груди всего партера, даже жандармы не нашли сил аплодировать»39.
Герцен, однако, не упоминает, что дело к графоманским пьесам и связанным с ними анекдотам не сводилось. Хотя бы потому, что
39 Герцен AM. Цит. соч. С. 286.
новое покорение Варшавы воспел в прекрасных стихах сам Пушкин. И трактовал он его отнюдь не как торжество империи над свободой, но как «спор славян между собою, домашний старый спор, уж взвешенный судьбою». Иными словами, поляки, по мнению Пушкина, бросили вызов вовсе не империи, а самой судьбе. Атакже истории, давно уже, казалось ему, похоронившей их безумные претензии на независимость.
Для Герцена это был нонсенс. Он-то спрашивал с искренним недоумением: «Отчего бы нам с Польшей не жить, как вольный с вольными, как равный с равными? Отчего же всех мы должны забирать к себе в крепостное право? Чем мы лучше их?»40. Как видим, вопрос о свободе Польши был для него лишь оборотной стороной вопроса о свободе российской: «Мы с Польшей, потому что мы за Россию. Мы с поляками потому, что одна цепь сковывает нас обоих. Мы... твердо убеждены, что нелепость империи, идущей от Швеции до Тихого океана, от Белого моря до Китая, не может принести пользы народам, которых ведет на смычке Петербург»41.
Как видим, представления Герцена о патриотизме были унаследованы от декабристов. И потому государственный патриотизм представлялся ему противоречием в терминах. Он оставался свободным человеком. «Мы не рабы нашей любви к родине, как не рабы ни в чем, - писал он. - Свободный человек не может признать такой зависимости от своего края, которая заставила бы его участвовать в деле, противном его совести»42.
Но именно эта внутренняя свобода и помешала Герцену увидеть, как далеко разошелся он с культурной элитой России, выбравшейся из-под жандармской шинели Официальной Народности искалеченной и с совершенно другими представлениями о патриотизме. Он оставался на ступени национального самосознания, тогда как современники его давно соскользнули на ступень национального самодовольства. А оттуда, как объяснил нам Владимир Сергеевич Соловьев, было рукой подать и до патриотической истерии.
Цит. по: Янов А. Альтернатива//Молодой коммунист (далее MK)-1974- № 2- С. 71.
1 ИР Вып. 12. С. 330.
2 МК.С.72.
Беда государственного патриотизма в том и состоит, как мы уже знаем, что раз начавши роковой спуск по «лестнице Соловьева», люди, пораженные им, остановиться уже, как правило, не в силах. Недооценив идейную мощь николаевского детища, Герцен не заметил момента, когда разминулся со сверстниками. Даже с лучшими из них. Даже с Пушкиным, когда тот, пройдя школу казенной Русской идеи, оказался «певцом империи».
Ошибся он, таким образом, дважды. В первый раз, когда не заметил, что судьбою постниколаевской России уже управляет государственный патриотизм, во второй - когда не увидел, что его взгляд на империю прямо противоположен взгляду его российских читателей. Не понял, другими словами, драмы патриотизма в России.
Глава четвертая Ошибка Герцена
истерия
Аукнулась ему эта монументальная ошибка уже на третьем году Великой реформы, когда лондонский его Колокол добился почти правительственного статуса, чтобы не сказать власти, в России. Это может показаться преувеличением, но, судя по тому, что писали Герцену и о Герцене даже его недоброжелатели, не очень большим.
Патриотическая
«Вы сила, вы власть в русском государстве», - признавался в открытом письме его непримиримый оппонент Чичерин. А вот что писал уже по^ле смерти Александра Ивановича его младший современник славянофил К.Н. Цветков, возражая своему коллеге и единомышленнику, неосторожно назвавшему Герцена несчастным: «Герцен - несчастный! И это в то время, когда вся русская интеллигенция благоговела перед ним и поклонялась ему, когда служащие военного и гражданского ведомств, не исключая самых высших, трепетали и раболепствовали перед ним. Слышно было, что мнениями его руководствуются. Это создавало Герцену как бы официозное положение и обусловливало почти подобострастное отношение к нему в обществе. Нет, он не был несчастным: он был «в случае», был
времена Бирона; нас трактуют как бессмысленных скотов. Или наш народ в самом деле никогда ничего не делал, а всё за него делала власть? Неужели он всем обязан только тому, что всегда повиновался - этой гнусной способности рабов? Ужас, ужас, ужас!»[25].
Но вот против этой холопской традиции, возрожденной Николаем, против «гнусной способности рабов» восстали с оружием в руках поляки, захотели от нее отделиться. И словно подменили Никитенко. ю апреля 1863 года он записывает: «Если уж на то пошло, Россия нужнее для человечества, чем Польша. Одни только народы могут служить человечеству, которые еще не прожили всего капитала своих нравственных сил, а Польша уже, кажется, это сделала. У России же есть будущность»[26].
И умиляется 18 апреля массовой демонстрации патриотических чувств: «В Москве 17 [апреля] был невыразимый народный энтузиазм. Народ потребовал, чтобы молебен отслужен был на площади против окон тех комнат дворца, где родился государь. Народ пал на колени и молился за Россию и государя с глубоким чувством. Очевидцы говорят, что это было зрелище великолепное и трогательное»[27].
И та же поразительная метаморфоза происходит вдруг с отношением Никитенко к Европе. 3 сентября 1855 года, во время Крымской войны, он ужасался воинственности славянофилов: «Лет пять назад москвичи провозгласили, что Европа гниёт, что она уже сгнила... А воттеперь Европа доказывает нашему невежеству, нашей апатии, нашему высокомерному презрению её цивилизации, как она сгнила. О горе нам!»[28]. А восемь лет спустя он уже и сам непрочь показать Европе кузькину мать. А как же иначе? Ведь «Европа хочет отнять у России ... право великой державы - и Россия должна уступить»[29]?