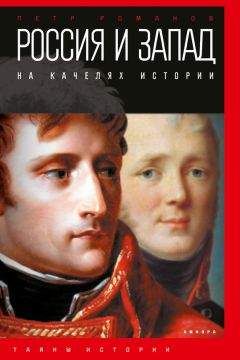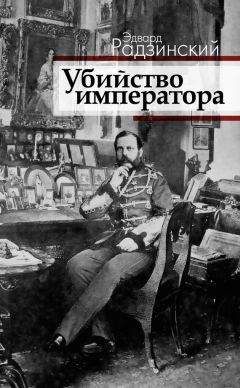Случайно ли, что именно в 1860-е, тотчас после того, как катастрофически окончилась для неё эра сверхдержавности, забилась страна в самом мощном до той поры припадке патриотической истерии?
Излечим ли этот «патриотический сифилис», оставленный ей в наследство её земным богом?
Если излечим, то при каких условиях?
Невозможно закончить разговор об ошибке Герцена, не попытавшись ответить на эти вопросы. Придётся нам на минуту вернуться к теме фантомного наполеоновского комплекса, столько раз уже затронутой нами в этой трилогии.
** Колокол. С. 189.
Чего не заметил Герцен
Читатель помнит, надеюсь, что захворала этой сверхдержавной болезнью Россия после того, как волею исторических судеб оказалась военной хозяйкой континента, наследницей свергнутой в 1815 году со сверхдержавного Олимпа наполеоновской Франции. До кончины Александра I, однако, покуда еще числила себя Россия идеологически в составе Европы, болезнь эта на практике никак себя не проявляла. Во всяком случае декабристская элита страны была от неё свободна совершенно. И империя, как мы помним, вовсе не была для неё священной коровой, и независимость Польши казалась ей делом вполне естественным.
Все это резко изменилось с разгромом декабризма и воцарением Николая, когда Россия устами Уварова объявила, что старый екатерининский постулат себя изжил и она больше не Европа, - неожиданно оказавшись таким образом военной хозяйкой чужого континента. Причем континента, уязвимого для «красной» революции, которая в представлении николаевских идеологов была воплощением анархии. Отсюда соблазн, с особой яркостью проявившийся в новомосковитской утопии Тютчева, подчинить себе Европу, раз и навсегда восстановив в ней под российским скипетром «великий принцип власти». На практике Европа, естественно, казалась николаевским геополитикам потенциальной добычей. Отсюда и обожествление империи, и «право великой державы», и полубезумная уверенность, что Европа «сгнила», т.е. к сопротивлению неспособна.
И продолжалась вся эта фантасмагория целое поколение, покуда Крымская война не обернулась николаевским Ватерлоо и Россия была, в свою очередь, свергнута со сверхдержавного Олимпа. Официальная Народность, благословившая идейный разрыв с Европой, закончила свой век вместе с неудавшимся российским Наполеоном.
Глава четвертая Ошибка Герцена
Но осталась, как мы знаем, вторая, неофициальная Русская идея славянофилов, которые на глазах становились элитой постниколаевской России. И былые жаркие споры о допетровской Московии, о которых рассказал нам Герцен и которые действительно одушевляли славянофилов, когда они были в безнадежной, казалось, оппозиции, неожиданно отошли на задний план перед суровой необходимостью выработать идеологию реформирующейся империи.
И тут вдруг обнаружилась поразительная вещь: важнейшие символы веры оппозиционной Русской идеи практически совпали с символами только что раскассированной официальной. Прежде всего речь шла об убеждении, что, поскольку царь состоит в мистическом браке со страной и его порфиры отражают свет небес, самодержавие несопоставимо выше любых других форм политической организации.
Возражение, что Европа уже отказалась от абсолютизма, отвергалось с тем же карамзинским высокомерием, что и при Николае: Россия не Европа. У нас другие традиции, другая культура и вообще - что немцу смерть, русскому здорово. И если уж на то пошло, то постниколаевская Россия в еще большей степени превосходит Европу, чем при Николае. Ибо теперь она выше её не в одном лишь политическом смысле (сохранив благословенное самодержавие), но и в самом что ни на есть социальном (предотвратив, благодаря сельской общине, пролетаризацию крестьянства). Гарантией этого превосходства является суверенность империи. Россия не должна позволить полякам и постоянно провоцирующей поляков на мятеж Европе подорвать этот сакральный суверенитет.
Иначерворя, символы веры бывшей неофициальной славянофильской Русской идеи становились официальной идеологией постниколаевской России. А для Герцена она все еще оставалась той прежней Россией его юности, где образованная молодежь стояла заодно против николаевского, «кнутового, полицейского патриотизма»68. И где славянофилы были nos enemis less amis, нашими врага- ми-друзьями. Да, он и тогда, конечно, уже понимал, что изобрели они «новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церк-
68 Герцен А. И. Цит. соч. С. 286.
ви»69. И все-таки, все-таки, хоть «мы были врагами, но очень странными. У нас была одна любовь... И мы, как Янус... смотрели в разные стороны, вто время как сердце билось одно»70.
Глава четвертая Ошибка Герцена
А на самом деле перед ним была совсем другая Россия, где вчерашние враги-друзья давно уже стали патриотами империи и переживали польский мятеж как смертельную угрозу, и готовы были растоптать его защитников, а он, Герцен, оказался всего лишь одним из этих европейских защитников, «клеветником, врагом России».
Мысленный
эксперимент
Не заметил Александр Иванович и того, что точно так же, как во Франции после Ватерлоо, сверхдержавный соблазн после Крымской войны естественно вступил в России в фазу фантомного наполеоновского комплекса, т.е. известной уже нам самоубийственной тоски по утраченной сверхдержав- ности. Отныне элита страны (во всяком случае её националистическое крыло) жила идеей реванша. А покорённой и униженной Польше отводилась, между прочим, в достижении реванша особая роль. Ведь, как слышали мы еще от Александра Павловича, предназначена она была «служить авангардом во всех наших будущих войнах в Европе».
Вот почему попытка поляков добиться независимости неожиданно уравнялась в сознании Никитенко (и всего «испорченного» Официальной Народностью поколения) со стремлением Европы отнять у нас «право великой державы». Как мы видели, они уже в 1863-м готовы были за это «право» воевать.
Иначе говоря, то был лишь первый сигнал, что новая элита пореформенной страны не постоит ни перед чем во имя реванша. Ибо с постниколаевской Россией происходило примерно то же, что с постнаполеоновской Францией: она жила в ожидании своего Наполеона III.
Там же. С. 284.
Допустим теперь - в порядке своего рода мысленного эксперимента - что история сыграла с тогдашними национал-либералами злую шутку. Также, как и их сегодняшние наследники, они разбудили своих Квачковых. И те обладали даром видеть будущее. И рассказали бы им, что ждет страну, заболевшую реваншем. Прежде всего, конечно, Квачковы сообщили бы им пренеприятнейшее известие: империя Романовых к реваншу не способна. И вы, говоруны, тоже. Для реванша нужна свежая кровь - и тотальная смена элиты. На ваше место должны прийти люди действия, которые умеют стрелять и способны согнуть несогласных в бараний рог. Другими словами - мы.
А дальше будет вот что. Будет гражданская война, будет новый Цезарь. Он уничтожит старую элиту (а заодно, если понадобится, и миллионы людей, не имеющих никакого отношения к делу), но добьется реванша. И никто больше не посмеет оспаривать у России «право великой державы». И вновь покоренная и униженная Польша (вместе с полудюжиной других раздавленных восточно-европейских карликов) будет покорно лежать у её ног. Согласны вы на это ради реванша?
У меня нет ни малейшего сомнения, что ответили бы на этот вопрос тогдашние национал-либералы отрицательно. Тем более, если наш мысленный эксперимент простерся бы еще на несколько десятилетий, когда снова «самоуничтожится», рассыплется впрах все это величие. И останется от всемогущей империи одно лишь страшное воспоминание. И свободная Польша вспомнит, что полтора столети^назад, в её смертельный час, нашлись среди русских «люди, которые чувствовали в себе силу отречься от гниющей империи во имя будущей России, имели силу подвергнуться обвинению в измене во имя любви к народу русскому».
Ни грана вымысла не было бы в этом рассказе. Одна горькая правда. Нет сомнения, что отшатнулись бы от такого будущего нацио- нал-либералы 1860-х. Но было бы поздно. Маховик великой трагедии уже был запущен. Ими самими...
Россия не исключение
Я вовсе не хочу сказать, что сверхдержавный соблазн был единственной причиной Катастрофы 1917 года. В основание пореформенной России заложены были, как мы помним, три «мины» замедленного действия, а не одна, и, конечно же, русские «бесы» вовсе не выскочили на сцену, как черт из коробочки, и не повернется у историка язык их оправдывать. Говорю я лишь, что сама её величество История словно бы поставила этот гигантский - и безжалостный - эксперимент, чтобы продемонстрировать великому народу, как неразумному дитяти, всё вероломство и ужас и бесплодие сверхдержавного соблазна, терзающего его десятилетиями.