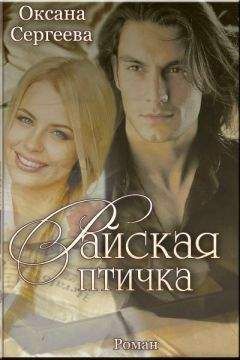Николай уже хотел было поздравлять своего соперника, но тут неожиданно для многих слово попросила заместитель начальника планового отдела Шура Романова. Она сказала, что состоявшееся голосование неправомочно, так как нет кворума. По списку с правом решающего голоса должно было быть не менее трехсот человек, а голосовало чуть более ста. Ее выступление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ну, если бы выступил кто другой… А тут пересмотреть и отменить итоги голосования требовала супруга Сергея Полищука. Николай глянул в его сторону, тот сидел неподвижно, уставившись в одну точку, и Порогову стало страшно за Шуру, он знал, что такие вещи не прощаются. Посовещавшись, начальство решило собрание перенести на следующую неделю.
Возле раздевалки Порогов столкнулся с Шурой Романовой. Она шла к выходу вместе со своим сыном Юрием.
– Зря ты стал кричать о проблемах и бедах армян, – хмуро и как бы вскользь, на ходу, сказала она. – В зале не было ни одного армянина. Вот тебе и набросали черных шаров.
Шуру остановил командир объединенного авиаотряда Рабдано, что-то начал выговаривать. Юрий, ожидая мать, некоторое время стоял рядом, затем, повернувшись, шагнул к Порогову.
– Николай Михайлович, вы меня извините, но то, что вы здесь сказали, понимают немногие. Говорить о таких вещах у нас не принято. Это все равно, как если бы дети в семье начали обсуждать отношения между родителями. Тема во многом запретная и деликатная. Но вы показали, что можете идти против течения. Хотя для политика – это почти всегда проигрышная позиция.
– Не всегда, – стараясь говорить как можно мягче, возразил Николай. – Кто-то должен был об этом сказать. Вот ты, судя по всему, понимаешь, о чем речь. Почему же тогда говоришь, что другие этого не понимают? Сейчас ругать власть, начальство большой смелости не надо. Люди должны знать: все проблемы можно решить только в условиях единого государства. Развалимся – будем сотни лет собирать осколки. Тогда будет не до экономики и даже не до споров, на чем и куда летать. Начнем сжирать друг друга.
– А вот моя маман считает, что такие разговоры как раз и подталкивают к разъединению, к нетерпимости, к взаимным обидам.
– Если человек любит и уважает свою мать, он никогда не позволит плохо говорить о матери другого. Мы же свою готовы в грязь втоптать. Вот о чем я хотел и, быть может, не совсем удачно сказал. Не уважая себя, трудно добиться, чтобы тебя уважали другие. Но мне приятно, что такие молодые ребята, как ты, уже задумываются и об этом. Значит, не все еще потеряно. Скажи, Юра, чем ты сейчас занимаешься?
– Я чем занимаюсь? – переспросил Юра. – Заканчиваю университет. Хочу работать следователем. Кстати, продолжаю играть в футбол, за сборную факультета. Мы недавно с Виталькой Людвигом встретились, ну, помните нашего вратаря, он поступил в военное училище. Вспомнили, как вы из нас делали команду, как выиграли первенство города среди дворовых команд. Если вы станете кандидатом, то я всех ребят за вас подниму.
– Спасибо, Юра. Матери не попадет за ее выступление?
– Не думаю. Было бы хуже, если бы она не выступила. Все должно быть честно.
Николай попрощался с Юрой и, натянув куртку, вышел на улицу. Он не стал садиться в троллейбус, пошел пешком. Было тепло, тихо, падал снег. Вдоль дороги уснувшим стадом один к одному стояли серые пятиэтажки, они квадратными глазницами окон смотрели на дорогу, на проскакивающие время от времени одинокие машины. Снег приглушал звуки и будто помогал оставаться наедине со своими мыслями.
Неудачное голосование огорчило Порогова. Одни были за него, другие – против. Он и сам не предполагал, что вторых окажется так много, вдруг поймав себя на том, что не любит проигрывать. Если еще вчера он был одним из многих, то теперь в отношении его произошел четкий разлом.
Особняком стояло выступление Романовой. Увидев ее в зале рядом с сыном, он думал, что она пришла поддержать Сергея. Но то, что произошло, не укладывалось в голове. Порогов бы не стал опротестовывать результаты голосования. Если говорить честно, то он и не предполагал, что и здесь, на первом собрании, нужен кворум. Но она-то встала и напомнила об этом.
Именно это выступление Шуры заставило Николая как бы заново посмотреть на их давние и непростые отношения.
А начались они два десятка лет назад. Как-то утром Николай пришел на вылет и увидел в самолете незнакомую бортпроводницу. Закутавшись в белый плащ и подогнув под себя ноги, она дремала на заднем сиденье. Лицо у нее было прикрыто красной фетровой шляпой. Но больше всего Порогова поразили ее красные модные туфельки. Их, точно в прихожей, она аккуратно оставила прямо под сиденьем. В Киренске, куда они собирались вылетать, шел дождь, асфальта там не было, и туда лучше всего подошли бы резиновые сапоги. «Надо же было так вырядиться», – подумал Порогов, поглядывая на стюардессу.
В Киренске, подняв шлейф грязи, самолет плюхнулся на полосу и сквозь сеющий дождь приполз к деревянному вокзалу. Посадку-то им разрешили, но после осмотра полосы аэропорт закрыли, и экипаж отправился в гостиницу.
Как известно, хуже всего ждать и догонять. Несколько дней, убивая время, играли в карты, затем, вечером, глянув в окно и увидев, что дождя уже давно нет, Порогов предложил прогуляться в город. Сославшись на грязь, все отказались, согласилась только Шура, попросив немного подождать ее, чтобы переодеться. На улице было тепло и тихо, в лужах купались воробьи; задевая крыши домов, к лесу катилось тихое и будто в чем-то виноватое солнце. Поглядывая на темные от времени и пыли похожие на купеческие амбары бревенчатые постройки аэропорта, на серые сбитые из толстых плах заборы, на такую же темную, как сторожевая башня, гостиницу, на торчащие из-за них макушки старых елей, Николай подумал, что все здесь строилось, должно быть, чтоб отсидеться как за крепостными стенами. И ему захотелось поскорее уйти от этих мрачных стен в поле.
Наконец-то в дверях показалась Шура, она не вышла, а точно вылетела, улыбаясь разом уходящему за горы солнцу, лужам и ему, одиноко торчащему посреди размокшей дороги. На ней была черная, на длинных лямочках майка и синяя юбка. Похоже было на то, что Шура не переодевалась, а раздевалась: когда, перебирая своими красными туфельками, она сбегала с крыльца, под майкой, точно резиновые, начали прыгать груди, и Николай догадался, что на ней по последнему писку моды нет лифчика. Глянув на ее туфельки, он подумал, что они ей, по такой вот размокшей земле, как козе подковы. Через некоторое время она и сама поняла это – сняв туфли, пошла по дороге босиком.
Поднявшись по крутой деревянной лестнице на застроенный остров, Николай сказал, что город в переводе с тунгусского означает «орлиное гнездо», и рассказал, как казаки-землепроходцы во главе с Ерофеем Хабаровым приплыли на эту землю, как вслед за ними привезли набранных в землях московских, новгородских и вологодских женок и как казаки разбирали их для совместного проживания. Смотреть в городке, собственно, было нечего, три магазина да все те же старинные деревянные с собаками во дворах улочки. Собаки дружно, точно передавая эстафету друг другу, облаивали их, из окон и ворот тут же выглядывали древние, как и сам городок, старухи и выцветшими глазами из-под руки смотрели вслед.
Прижавшись к Николаю плечом, Шура шепотом вдруг призналась, что не верит, что когда-то и она будет вот такой же старой и беспомощной. Порогову было приятно слышать ее доверительный шепот, смотреть на незнакомые лица киренчан, улавливать в этих уже проживших жизнь глазах не только любопытство, но и некую к ним снисходительность; он мысленно соглашался с Шурой, что тоже не может представить себя стариком. Выйдя к крутому берегу Лены, он предложил зайти к жившему здесь бортмеханику Гордееву, с которым он подружился, летая на геомагнитной съемке. Шура, улыбнувшись, согласилась. Ей, как и ему, надоело торчать в гостинице.
Увидев гостей, Гордеев обрадовался. Он топил баню и тут же предложил им попариться. Шура, сославшись, что у нее нет с собой чистого белья, начала отказываться, но Николай с удовольствием принял приглашение. Чуть позже, когда Гордеев вынес стопку чистых простыней и махровый халат, Шура тоже согласилась идти в баню. Пока они, сменяя друг друга, парились, Гордеев приготовил ужин: грибы с картошкой, сало, пельмени, зажаренного ленского омуля и бутылку «Столичной». Шуре отдельно после бани предложил ковш брусничного сока.
– Простыни у вас какие-то не наши. И клеймо на них с английскими буквами, – завернувшись по самые плечи, сказала она. – Настоящий хлопок.
– А, это у меня еще с войны осталось, – сказал Гордеев. – Я ведь в авиаперегоночном полку у Ивана Павловича Мазурука служил. По ленд-лизу мы с Аляски перегоняли «бостоны», «боинги», «дугласы» и «аэрокобры». На каждом самолете был полный комплект спасательного снаряжения: шоколад, галеты, тушенка, нож с пилой, ракетница, ружье, спальник на гагачьем пуху. Были даже простыни. Пока до Красноярска долетали, уже ничего этого не оставалось. Зачем на фронте простыни? А сколько этих самолетов по трассе лежит! Один «бостон» неподалеку отсюда в тайге разбитый догнивает. Я в сорок восьмом решил разыскать его. Долго плутал, но в конце концов нашел, лежит с погнутыми винтами в тайге. Все снаряжение оказалось целым. И даже простыни оказались целыми и пригодными. Хорошо и герметично были упакованы.