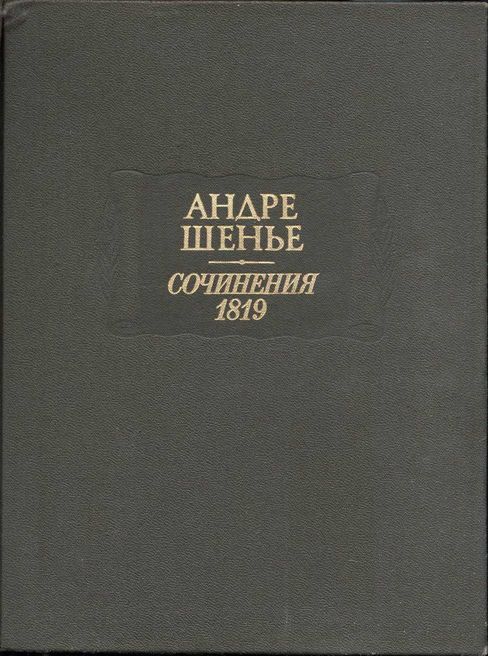установлениями, благодаря которой каждый гражданин хорошо знает, что принадлежит ему и, следовательно, что принадлежит другим, каждый гражданин хорошо знает, каков его долг по отношению к обществу и изо всех сил исполняет свой долг, каждый гражданин уважает себя в другом и свои права в правах другого, каждый гражданин, простирая свои устремления настолько далеко, насколько он может, никогда не оспаривает закон и машинально, бессознательно почитает его? А когда общественное устройство достаточно долговечно, чтобы все это стало для всех врожденной привычкой, своего рода культом, я бы даже сказал, суеверием, тогда, конечно, в стране складывается наилучшее общественное мнение. Я знаю, что было бы безумием хотеть, чтобы спустя год после освобождения и в нашем обществе сложился бы такой дух. Я знаю, что этого можно достичь лишь долгим путем и не принадлежу к тем, кто кричит, что все потеряно, если все не свершено в один день. Но есть и такая степень медлительности, что вселяет страх, как бы цель не оказалась не достигнутой и как бы в дороге не постигла смерть. Об успехах же можно судить по меньшей мере при том условии, если мы видим ряд последовательных событий, с которыми естественно согласуются наши представления о необходимых правилах поведения.
Итак, посмотрим, каких успехов достиг наш разум на пути к образцу, к которому мы должны стремиться. Посмотрим, в чем он стал просвещенным, окрепшим, обогащенным; посмотрим, как послужил нам опыт одного года, столь богатого на события. Если мне заметят, что так нельзя дать верный прогноз на будущее, потому что в стране было слишком много беспорядков и волнений, чтобы мы могли продвинуться к социальному совершенству, я соглашусь с этим замечанием, и оно даже послужит доказательством того, насколько бесполезные беспорядки и волнения были нам вредны и что, следовательно, мы больше не сделаем ни шага по пути к будущему, если не предотвратим подобные нестроения.
Действительно, как и в прошлом году, мы повинуемся лишь нашим сиюминутным прихотям; как и в прошлом году, мы забываем сегодня закон, принятый нами вчера. В этом году мы так же преследуем тех, кто перепродает деньги [507], как в прошлом преследовали торговцев пшеницей; как и в прошлом году, часть народа доходит до насильственных действий в отношении прежних господ; этим людям как будто кажется, что свобода дает им право угнетать тех, кто их некогда угнетал и что железный прут лишь перешел в другие руки; как и в прошлом году, мы требуем затворить двери и удержать людей силой; как и в прошлом году те, кому угодно отправиться в путешествие и кто имеет право поступать, как ему заблагорассудится, вопреки декретам Национального собрания и правам человека, вопреки здравому смыслу оказываются задержаны, сами они — подвергнуты допросу, а их экипажи — непростительному обыску; как и в прошлом году, сыскные комитеты роются в домах, в бумагах, в мыслях граждан, и мы аплодируем; и пусть мне не говорят, что эти усилия, эти поиски дали какие-нибудь положительные результаты, ибо помимо того, что я мог бы просто отрицать подобные утверждения, я заявляю, что это объяснение ничего не стоит, что плохая мера никогда не может быть столь же полезной в данную минуту, сколь вредной впоследствии и что мы вообще весьма далеки от здорового общественного мнения, если думаем, что успех может превратить в нечто хорошее нечто дурное по самой своей сущности; наконец, как и в прошлом году, часть народа упорно ставит себя на место судей и находит развлечение в том, чтобы выносить смертные приговоры, и никто не сомневается в том, что, не будь наших магистратов и национальных гвардейцев, двигающих вперед дело, когда мы тащимся в хвосте, кровавые сцены [508] возобновились бы на наших глазах.
Отвратительное зрелище! Позорящее имя французов! Позорящее род человеческий! Зрелище огромных скопищ людей, берущих на себя одновременно обязанности доносчиков, судей и палачей. Пусть объясняют, пусть даже оправдывают возбуждением первого момента, злобой, накопившейся за долгие годы гнета, неизбежными последствиями полной перемены, происшедшей с огромным народом, эти катастрофы, ставшие роковыми для тех, кто некогда возглавлял учреждения, под бременем коих стонал народ, пусть так, я согласен. Но как объяснить эти растянутые и трудоемкие казни, эти изощренные, хитроумные пытки, которым нечестивая чернь предавала в большинстве своем невинные жертвы? как извинить омерзительные насмешки, сопровождавшие их жалобы и последние мгновения? как извинить, объяснить эту ужасную в людях жажду крови, это отвратительное желание видеть чужие страдания, заставляющее их толпой набрасываться на обвиняемых, совершенно им незнакомых или на виновных, чьи преступления их ни разу не коснулись или же на мелких нарушителей общественного порядка, которых ни одно законодательство, даже самое варварское не наказывает смертью; терзать их собственными руками, роптать и бунтовать против солдат, в то время как их вооружил закон и они вырывают у них жертвы с риском для собственной жизни?
И при этом находятся настолько жестокие, настолько подлые писаки, что объявляют себя покровителями, апологетами этих убийств!
И они осмеливаются ободрять убийц! осмеливаются направлять удар на ту или иную голову! И у них хватает стыда называть это отвратительное попрание всяческих прав, всяческой справедливости народным судом! Конечно, коль скоро является бесспорным, что всякая власть исходит от народа, право вешать исходит также от него; но как ужасно, что это единственное право, которое он не хочет осуществлять через своих представителей! И порядочные люди больше всего должны упрекать себя, в частности, и за то, что они недостаточно открыто продемонстрировали свое возмущение. То ли удивление, то ли неверие в успех, то ли страх сделали их почти безгласными; они отвратили свой взор от этого зрелища в молчании, смешанном с ужасом и презрением, и покинули определенный класс народа, сделав его жертвой бешенства и кровавых подстрекательств тех жестоких и гнусных людей, для коих обвиняемый всегда виновен, для коих оправдание невинного превращается в общественное бедствие, которые любят свободу только в том случае, если у нее есть предатели, подлежащие наказанию; почитают закон, только когда он диктует смерть; уважают суды, только когда они посылают на казнь, а если общество видит себя вынужденным пролить кровь, поздравляют его с этой удачей и желают ему пролить ее еще больше, и чьи крики и рев в случае, если обвиняемых оправдывают, напоминают рычание и зубовный скрежет диких зверей, когда из их когтей и пасти вырывают живые тела, которые они уже начали раздирать.
Но что же? разве все граждане не обладают правом иметь и публиковать свое мнение обо всем, что касается общего