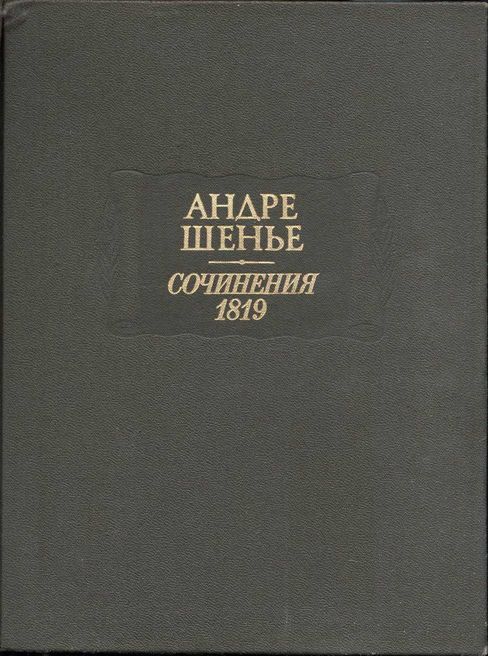ко благу. Тогда общему делу грозит подлинная опасность и становится трудно не признавать происков и влияния неких врагов общества. Не наш ли это портрет в настоящее время или только картина, порожденная фантазией?
Но эти враги, кто они? Здесь начинаются неопределенные крики: каждая партия, каждый гражданин обрушивается на тех, кто не думает обо всем точно так же, как они: обвинения в заговорах, злоумышлениях, подкупах, при иных обстоятельствах могущие содержать некоторую долю вероятия, становятся столь повсеместными, что не вызывают более никакого доверия. Тем не менее, нам было бы важно знать достоверно, с какой стороны мы должны ожидать опасность, чтобы суметь защититься и чтобы наша неопределенная тревога и наши смутные подозрения не ввергли нас в те бои в потемках, когда разят и друзей и врагов. Попытаемся же, выслушав всевозможные мнения, различить путеводный луч света.
Все те, кто наделен хоть какой-то рассудительностью и стремится обосновать выражаемое ими беспокойство, не ограничиваясь непоследовательными и бессвязными разглагольствованиями, приходят примерно к следующим заключениям. Они учитывают и неприязнь ряда иностранных суверенов, коих могла огорчить наша революция, и корысть и опасения всех королей, чьи подданные могут быть слишком потрясены примером Франции, и властолюбие и жадность тех наций, что, несмотря на повсеместно проповедуемые ныне принципы человечности, справедливости и прав людей, не перестают выжидать случай обогатиться и расширить свои владения за счет тех, кто кажется не в состоянии защититься. Исходя из этого они обращают наше беспокойное внимание то на австрийцев, каковые, между тем, усталые и измотанные длительной, кровавой и дорогостоящей войной и сами встревоженные уже начавшимися или близкими к началу восстаниями [505] во многих из их собственных областей, как будто не собираются на нас нападать, то на англичан — и эта нация, о которой столько говорят в Париже и где ее так мало знают, действительно более опасна, то на другие державы — все и впрямь более или менее внушающие страх, но при этом все рассуждающие сходятся на мысли, что беглецы из Франции и те, с кем они сохранили во Франции связи, возбуждают и подстрекают эти державы.
Однако представляется очень мало правдоподобным, что европейские кабинеты только и делают, что прислушиваются к советам чужеземных беглецов, из коих одни — и таковых большинство — были у себя на родине личностями мало известными, а другие потеряли свой авторитет и почти все свое состояние во время происходящей революции. Не может быть, чтобы они не понимали, что эта революция произведена не волею каких-то отдельных личностей, но что вся нация нуждалась в ней, желала и свершила ее и что, следовательно, явная поддержка, будь она оказана им у нас, была бы несущественной. И если правда, что иностранные державы действительно помышляют обрушиться на нас, то, думаю, они в гораздо большей степени рассчитывают на нашу предполагаемую слабость — а её неизменно и почти всегда довольно опрометчиво принято приписывать освобождающимся народам, — на бессмысленные и совершенно необоснованные распри, ежедневно нас утомляющие, на всеобщее неповиновение и на то охватывающее нас при одном слове “война” смятение, что можно принять за страх.
Поистине неразумно полагать, что французы, не испытывающие любви к нашей революции, в особенности те, кого недовольство или страх заставили бежать за границу, являются все без исключения деятельными врагами, пламенными заговорщиками, не имеющими иных желаний, кроме желания увидеть, как все граждане перережут друг друга, или натравить на нас соседние государства, дабы огнем и мечом проложить себе обратную дорогу во Францию. Я более чем убежден, что среди них есть некоторые, кого оскорбленная гордость, ненависть, жажда мести, ребяческая привязанность к столь же пустым, сколь и несправедливым привилегиям могли бы заставить измыслить или разделить эти безрассудные и преступные планы и кто вдали, быть может, питают безумную надежду стать Кориоланами [506] своей родины. Но человеческая природа порождает очень мало таких непреклонных и неугомонных душ, коих даже воспоминание о нанесенной обиде может ввергнуть одновременно в столь резкие и длительные крайности. Большинство же людей, быть может, способных на отчаянный удар в первом порыве ярости, в конце концов успокаиваются и вскоре устают от одной мысли о кропотливой и расчетливой мести.
Так и большинство наших недовольных, остались ли они в стране и скрываются или бежали и живут открыто, вероятно желают больше, чем мы думаем и чем они думают сами, вернуться к своим очагам и спокойно жить на своей родине, мирной и счастливой. Узость мысли, ошибочное воспитание, малодушное и смешное тщеславие, подлинный ущерб, нанесенный их состоянию, искусственные и ложные понятия о величии и благородстве, опасности, которым многие из них подвергались — все это привязывает их, влечет к химерам прошлого; многие совершенно искренне полагают эти химеры необходимыми для счастья человечества и, сравнивая покой прежнего рабства с происходящими волнениями и бедствиями — а среди них есть такие, что неизбежны в пору освобождения великого народа, делают заключение, что убийства и мятежи составляют сущность свободы, то есть разума и справедливости. Но развейте их заблуждения, показав им порядок, справедливость и согласие, установившиеся в городах и деревнях; вещи и людей в безопасности; всех граждан под защитой закона и послушных только ему: можно ли сомневаться, что они тогда возвратятся из изгнания и расстанутся со своими ошибками? Можно ли сомневаться, что тогда в душе отсутствующих пробудится острое желание вновь увидеть свою родину, которую, как им, быть может, кажется, они ненавидят? Кто сочтет их неразумными до такой степени, чтобы предпочесть сладости возвращения, поправки своего состояния, приумножения того, что у них еще осталось из имущества и мирной кончины в кругу друзей и семьи на той земле, где они родились, горечь скитаний из края в край, в бедности, без всяких душевных привязанностей, вдали от друзей, от родных, в одиночестве, когда невозможно избежать утомительного любопытства или унизительной жалости, а порой оскорблений и презрения?
Но, вернувшись домой, они, быть может, не станут очень усердными патриотами? Что нужды? да и имеете ли вы право, полномочия требовать этого? Можете ли вы заставить человека любить то, чего он вовсе не любит? Можете ли вы его принудить расстаться с предрассудками прошлого, если его слишком слабое зрение не видит их нелепости? Единственное, чего вы можете требовать, это чтобы они были мирными гражданами, а они явно будут ими. Можно ли поверить, что они захотят подвергнуть свой покой, свою безопасность, свою семью, свою жизнь случайностям заговоров, которые так трудно плести посреди общественной бдительности, и которые ныне обречены на неудачу при таком поразительном