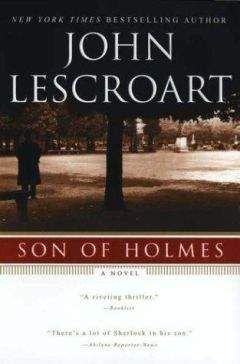и равнодушных сил. И он не мог больше обманываться: то, что он видел, нельзя увидеть снаружи – хотя это и было бы утешением. Части нельзя было и дальше трактовать как целое: либо ничто, либо всё.
В более практическом смысле он отлично сознавал, как важно сохранить свое творческое наследие в нерушимой целости. С годами Тёрнер все неохотнее продавал картины. Ему хотелось, чтобы как можно больше полотен оставалось в единой коллекции, и его захватила мысль подарить их все государству, с тем чтобы они были выставлены в одном месте. «Храните их все вместе, – завещал он. – Какой от них прок, если они будут разрознены?» Но почему? А потому, что только так они могли служить надежным свидетельством о его творческом опыте, у которого, по его убеждению, не имелось аналогов в прошлом, как не имелось и больших шансов быть понятым в будущем.
23. Теодор Жерико
(1791–1824)
Бродя по центру Парижа этой зимой, я все время думал об одном портрете. На нем изображен неизвестный мужчина, и написан он в начале 1820-х годов. Портрет глядел на меня с афиш чуть ли не на каждом углу, возвещая о большой выставке работ Жерико в Гран-Пале.
Полотно, о котором идет речь, было обнаружено на чердаке в Германии вместе с четырьмя другими похожими картинами через 40 лет после смерти художника. Его предложили купить Лувру, но последовал отказ. Тут надо представлять себе контекст: на фоне страшной драмы и обличительного пафоса полотна «Плот „Медузы“», висевшего к тому времени в музее уже 40 лет, наш портрет казался невыразительным. Однако в наши дни его выбрали в качестве визитной карточки творчества Жерико в целом. Что же изменилось? Отчего этот скромный портрет стал сегодня таким красноречивым или, точнее говоря, таким мучительно-знакомым?
За всем, что воображал и изображал Жерико, – от диких лошадей до лондонских нищих – чувствуется один и тот же призыв: «Дайте мне присмотреться к несчастью, обнаружить в нем достоинство, а если удастся, то и красоту!» Разумеется, та красота, которую он надеялся обнаружить, означала нечто противоположное официальным идеалам.
У него много общего с Пазолини:
Я заставляю себя все понимать,
хотя любая жизнь – потемки, кроме
своей; заставляю, пока в ностальгической тоске
не осознаю полностью весь опыт
чужой жизни; я весь сострадание,
но мне хотелось бы, чтобы дорога моей любви
к этому нашему миру была иной,
и я возлюбил бы ближних, одного за другим.
Портрет, который я увидел на афише, когда-то назывался «Безумный убийца», потом был переименован в «Клептомана», а сегодня в каталоге можно прочесть: «Страдающий мономанией кражи». Настоящего имени этого человека никто уже не помнит. Жерико нарисовал узника сумасшедшего дома Сальпетриер в центре Парижа. Всего художник создал десять портретов людей, признанных безумными, пять из них дошли до нас. Среди них есть незабываемый портрет женщины, находящийся сейчас в музее Лиона. Его изначальное название – «Гиена Сальпетриера». В наше время ее именуют также «Страдающая мономанией зависти».
Мы можем только догадываться, почему Жерико решил написать пациентов психбольницы. Однако, судя по манере письма, его меньше всего занимал клинический диагноз. Сами мазки свидетельствуют о том, что он знал портретируемых по имени и, думая о них, произносил про себя их имена. Имена их душ. Имена, которых никто теперь не знает.
За десять или двадцать лет до того Гойя писал сцены с сумасшедшими – прикованными к стенам, полностью обнаженными. Внимание Гойи, однако, привлекало их поведение, а не внутренний мир. До Жерико, до его портретов узников Сальпетриера, пожалуй, никто – ни художник, ни врач, ни знакомые, ни родные – так долго и пристально не всматривался в лицо человека, которого признали (или осудили быть) сумасшедшим.
В 1942 году Симона Вайль писала: «Любовь к ближнему, возникшая из творческого внимания, сродни гениальности». И когда она писала эти слова, ей было точно не до искусства.
«Любовь к ближнему во всей своей полноте просто означает способность спросить: „Что тебя мучит?“ Это признание того, что несчастный существует не только как экземпляр в коллекции, не как образчик социальной категории с ярлыком „несчастные“, а как человек, точно такой же, как мы все, который однажды был отмечен особой печатью несчастья… Однако необходимо еще и знать, как правильно относиться к нему».
Для меня написанный Жерико портрет человека с взъерошенными волосами, съехавшим набок воротником и глазами, которые не хранит уже никакой ангел-хранитель, как раз и есть свидетельство «творческого внимания» и говорит о «гениальности», упомянутой Симоной Вайль.
Но почему сегодня этот портрет на улицах Парижа кажется таким неотвязным? Он словно бы исхитряется ущипнуть вас, когда вы проходите мимо. Попробую объяснить, что такое один из ущипнувших вас пальцев.
Есть много форм безумия, начинающихся как лицедейство (Шекспир, Пиранделло и Арто это хорошо понимали). Опасная эксцентричность поначалу только репетирует, испытывает свои силы. Каждый, кому доводилось видеть, как начинает сходить с ума знакомый, знает это чувство – когда тебе отводят роль зрителя. Поначалу вы видите на сцене мужчину или женщину в одиночестве, но рядом с ним или с ней маячит, словно призрак, неадекватность любого готового объяснения их каждодневных страданий. Затем он или она приближаются к призраку, и тут обнаруживается жуткий зазор между любыми произносимыми словами и тем, что они, по идее, должны значить. В действительности этот зазор, этот вакуум и есть боль. И наконец, в точном соответствии с принципом «природа не терпит пустоты» в зазор врывается безумие, все заполняя собой, и тогда разница между сценой и миром, игрой и страданием исчезает.
Разрыв, зазор между опытом нормальной жизни в каждый данный момент на данной планете и выхолощенными речевыми клише, которые предлагаются для объяснения этой жизни, – огромен. Вот что порождает безысходность, а вовсе не факты. Вот почему треть населения Франции готова слушать Ле Пена. Смысл его речей – при всей их вредоносности – ближе к тому, что происходит на улицах. По той же причине, хотя и впадая в другую крайность, люди мечтают о «виртуальной реальности». Все, что угодно – от демагогии до искусственных онанистических грез, – все, все, что угодно, лишь бы заполнить этот зазор! В таких зазорах люди пропадают, в таких зазорах они сходят с ума.
На всех пяти портретах, написанных Жерико в Сальпетриере, люди глядят куда-то в сторону. И не потому, что сосредоточились на чем-то удаленном или воображаемом, а потому, что избегают смотреть на