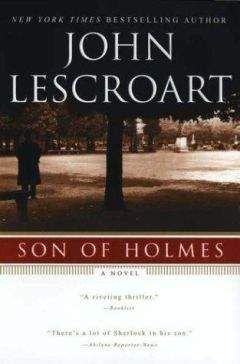то, что рядом. Близлежащее вызывает головокружение, поскольку оно необъяснимо теми способами, которые предлагает общество.
Как часто теперь можно встретить подобный взгляд, не сфокусированный на близлежащем, – в поездах, на парковках, на автобусных остановках, в торговых центрах…
Бывают исторические периоды, когда безумие кажется тем, что оно есть: редким и аномальным недугом. Но бывают и другие времена – подобные тому, в которое мы сейчас вступили, – когда безумие кажется типичным.
Все это было описанием первого из пальцев, которыми нас ущипнул безумец с взъерошенными волосами. Второй палец – сочувствие к образу.
Постмодернизм обычно не связывают с сочувствием. Однако было бы одновременно и полезно и поучительно попробовать это сделать.
Большинство бунтов в истории преследовали цель восстановить справедливость, которая прежде попиралась или вовсе была забыта. Французская революция, однако, провозгласила новый принцип, подхваченный всем миром: Лучшее Будущее. С этого момента все политические партии, как левые, так и правые, уже не могут обойтись без заверений, что страданий в мире с каждым годом будет все меньше и меньше. Таким образом, все беды и недуги стали в определенном смысле напоминанием о надежде. Боль, которую мы видим, разделяем или сами непосредственно испытываем, разумеется, остается болью, однако может быть отчасти преодолена, если относиться к ней как к шпоре, которая подстегивает общую устремленность к светлому будущему – будущему без боли. Несчастье получило исторический выход! И на протяжении двух трагических столетий даже в трагедии научились видеть проблеск надежды.
Сегодня никаких проблесков нет, надежды обернулись пустыми обещаниями. И было бы близоруко увязывать эту пустоту исключительно с крушением коммунизма. Куда дальновиднее держать в поле зрения непрерывный процесс, в ходе которого всевозможные товары, потеснив светлое будущее, выступают в качестве носителя надежды. Надежды, которая не сулит ничего, кроме пустоты, и к тому же заведомо, по неумолимой экономической логике, исключает огромное большинство человечества. Купить билет на ближайшее ралли Париж – Дакар и вручить его безумцу с взъерошенными волосами означает расписаться в собственном безумии.
Итак, мы смотрим на него сегодня без исторической или современной надежды. Скорее, смотрим на него как на последствие. И это, естественно, означает, что мы смотрим на него равнодушно. Мы его не знаем. Какой-то сумасшедший. Умер больше 150 лет назад. Каждый день в Бразилии тысяча детей умирает от недоедания или болезней, которые излечимы в Европе. Они в тысячах миль от вас. Вы ничего не можете сделать.
И все же образ нас ущипнул. В нем есть сочувствие, которое не приемлет равнодушия и несовместимо с легковесной надеждой.
Какой необычайный момент отмечает это полотно в истории художественной репрезентации, в истории человеческого самопознания! До этой картины никто и не подумал бы так пристально и с такой жалостью вглядываться в лицо безумца. А вскоре после нее ни один живописец уже не сумел бы написать подобный портрет без того, чтобы привнести в образ мерцание модернистской или романтической надежды. Как в образе легендарной Антигоны, светлое сочувствие сосуществует на этом портрете с бессилием. И эти два качества, отнюдь не взаимоисключающие, по-братски протягивают друг другу руку, о чем изнутри хорошо знают жертвы, но снаружи постичь можно лишь сердцем.
Все это, однако, не должно лишать нас ясного понимания. Сочувствию нет места в естественном порядке вещей, если миром правит необходимость. Закон необходимости, подобно закону всемирного тяготения, не знает исключений. Способность человека к сочувствию противна такому порядку, и, следовательно, ее надлежит рассматривать как нечто сверхъестественное. Забыть себя, пусть и ненадолго, отождествить себя с незнакомцем до такой степени, чтобы полностью признать его, – значит отринуть необходимость, и в таком неповиновении, пусть маленьком, тихом (размеры портрета всего 60 × 50 см), заключена сила, которую нельзя измерить в пределах естественного порядка вещей. Такая сила – не средство и не цель. Древние понимали это. Об этом говорит Антигона:
А твой приказ – уж не такую силу
За ним я признавала, чтобы он,
Созданье человека, мог низвергнуть
Неписаный, незыблемый закон
Богов бессмертных. Этот не сегодня
Был ими к жизни призван, не вчера:
Живет он вечно, и никто не знает,
С каких он пор явился меж людей.
Софокл. Антигона. Эписодий II [82]
Портрет, словно призрак, глядел с афиш на улицах Парижа. Не призрак человека с взъерошенными волосами и не призрак Жерико, а призрак той специфической формы внимания, которую два века подряд маргинализировали, но которая теперь с каждым днем становится все более востребованной. Вот это и есть второй палец.
Когда нас ущипнут, что мы делаем? Просыпаемся, надо полагать.
24. Жан-Франсуа Милле
(1814–1875)
Святых в своем смирении крестьян Милле всегда использовали для иллюстрирования разных моральных уроков и успокоения совести – неспокойной совести тех, кто переносит все на свете стойко, однако догадывается, что слишком многое в жизни принимает слишком пассивно; и совести тех, кто, существуя за счет чужого труда, в глубине души подозревает, что неким неописуемым образом (и Боже помоги тем, кто опишет это слишком внятно) труженик наделен благородством, которого им самим не хватает. А пуще всего картины Милле привлекаются для того, чтобы узники ценили достоинства тюремной камеры. Его картины используют как живописную этикетку на огромной церковной бутыли с бромом, который прописывают в качестве успокоительного средства от социального жара и зуда. И в истории восприятия Милле это намного важнее того обстоятельства, что высоколобая мода игнорирует Милле в последние 30–40 лет. Как важно, несомненно, и то, что художники ранга Дега, Моне, Ван Гога и Сикерта единодушно считали Милле великим рисовальщиком. Имена Микеланджело, Пуссена, Фрагонара, Домье, Дега – все будут к месту при обсуждении работ Милле, хотя привлекать их приходится только для пользы «любителей искусства», введенных в заблуждение учебниками, иначе бедняги так и останутся при мнении, будто вся заслуга Милле в том, что он Иоанн Предтеча прерафаэлитов или Уоттса. Покончив с преамбулой, можно перейти к главному, а главное у Милле – моральный аспект.
Он был моралистом в том единственном смысле, в каком может быть великий художник: в силу отождествления со своими персонажами. Он писал крестьян, поскольку сам был из них, а также потому (подобно далеким от политики реалистам нашего времени), что инстинктивно ненавидел фальшивую элегантность бомонда. Гениальность его картин обусловлена двумя факторами: выбором в качестве основной темы физического труда и чувственным темпераментом, который позволял ему в полной мере, физически отождествляться с героями. Кеннет Кларк указывает на один существенный момент: в возрасте 35 лет Милле перестал