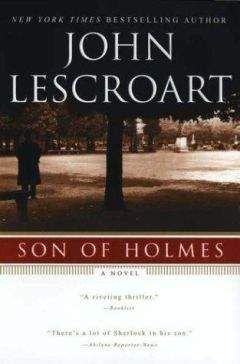религиозности. Возможно, именно это заставило Тёрнера символически трактовать природу. Природа, как никакая другая символическая система из числа всем знакомых и доступных, оказывала глубокое моральное воздействие на зрителя, хотя символ не действовал прямолинейно. «Похороны в море» запечатлели погребальный обряд, совершаемый по случаю смерти сэра Дэвида Уилки, одного из немногих друзей Тёрнера. Заложенные в этой картине смыслы достигают космических масштабов. Но как при этом следует понимать ее пафос – протест ли это против мироздания или знак его приятия? Следует ли нам сосредоточиться на невероятно черных парусах или на столь же невероятно сияющем городе за ними? Вопросы, вызываемые этим полотном, имеют нравственный характер (отсюда смутное ощущение клаустрофобии, присущее поздним работам Тёрнера), однако ответы амбивалентны. Неудивительно, что Тёрнер высоко ценил способность живописи сеять сомнения, создавать завесу тайны. Рембрандт, говорил он с восхищением, «проливал таинственное сомнение на самый ничтожный фрагмент обыденности».
С самого начала Тёрнер был необычайно честолюбив и открыто стремился к превосходству над коллегами по цеху. Он жаждал признания не только как величайший живописец своей страны и своего времени – он мечтал прославиться в веках. Он видел себя равным Рембрандту и Ватто. Он считал, что пишет лучше, чем Клод Лоррен. Амбициозность соседствовала в нем с явной склонностью к мизантропии и скаредностью. Свои методы работы он держал в строжайшей тайне. Он сделался отшельником – в том смысле, что по доброй воле чуждался общества. Его одиночество не было следствием равнодушия публики и недостатка признания: с ранних лет его карьера развивалась на редкость успешно. Правда, по мере того, как его живопись приобретала все более оригинальные черты, она все чаще подвергалась критике. Иногда художника называли сумасшедшим за склонность к одиночеству и эксцентричным выходкам, но в том, что это великий талант, никто никогда не сомневался.
Он писал стихи на темы своих картин, составлял и время от времени читал лекции по искусству: и в стихах, и в лекциях Тёрнер изъяснялся напыщенным, плоским и пресным языком. В личном общении он был замкнут и груб. Некоторые почитают его визионером, однако при этом нельзя упускать из виду его последовательный и упорный эмпиризм. Он предпочитал жить один, однако делал все необходимое, чтобы обеспечить успех в конкурентной среде художников. Его посещали грандиозные видения, которые на холсте превращались в величественные картины, а на бумаге – в помпезное пустозвонство. Его сознательно выбранная художническая позиция была прагматичной и почти ремесленнической: тот или иной сюжет или живописный прием привлекал его тем, что он называл реализуемостью – способностью породить картину.
Талант Тёрнера принадлежал к новому типу, возникшему в Британии XIX века. Однако талант этого типа получил развитие по преимуществу в науке, инженерном деле или бизнесе (несколько позже он будет героизирован в Соединенных Штатах). У Тёрнера была прирожденная способность к успеху (он оставил состояние в 140 тысяч фунтов стерлингов), но успех не удовлетворял его. Тёрнер чувствовал себя одиночкой в истории. Его видения были всеобъемлющими, невыразимыми словесно – их можно было вынести на публику, только выдав за реализуемую продукцию. В этих видениях человек – ничтожный пигмей рядом с непостижимо могучими силами, над которыми он не властен, хотя сам же их и открыл. Художник бывал близок к отчаянию, и только невиданная творческая энергия поддерживала его на плаву. (В его мастерской после смерти оказалось 19 тысяч рисунков и акварелей и несколько сот картин.)
Рёскин писал, что подспудно через все творчество Тёрнера проходит тема Смерти. Я бы определил эту подспудную тему скорее как смесь одиночества, неистовства и невозможности спасения. Бо́льшая часть его картин словно бы написана по следам преступления. И то, что задевает в них за живое – и позволяет называть их прекрасными, – отнюдь не чувство вины, а запечатленное вселенское равнодушие.
Несколько раз на протяжении жизни Тёрнер сумел выразить свои видения через показ действительно имевших место в реальности катастроф, свидетелем которых он стал. В октябре 1834 года здание парламента охватил пожар. Тёрнер примчался к месту происшествия, принялся яростно делать наброски с натуры, а на следующий год представил Королевской академии законченную картину. Спустя несколько лет, когда ему было уже сильно за шестьдесят, он оказался на борту парохода во время снежной бури и впоследствии запечатлел пережитое. Всякий раз, когда полотно оказывалось изображением реального события, Тёрнер подчеркивал в названии картины или в примечаниях к каталогу, что данное произведение – результат личного опыта автора. Полное название последней из упомянутых картин звучит так: «Метель. Пароход выходит из гавани и подает сигналы бедствия, попав на мелководье, а дальше продвигается при помощи лота. Автор был свидетелем этого шторма в ночь, когда „Ариэль“ вышел из Харвича». Кто-то из приятелей сказал Тёрнеру, что его матери понравилась картина со снежной бурей, и в ответ услышал:
– Я писал ее не затем, чтобы ее понимали, мне хотелось показать, как это выглядит. Поэтому я велел матросам привязать себя к мачте, чтобы самому за всем наблюдать. Я провел так четыре часа и не надеялся уцелеть, но я считал своим долгом правдиво запечатлеть увиденное, если уцелею. А хвалить картину никто не обязан.
– Но моя мать тоже пережила нечто подобное, и картина навеяла ей воспоминания.
– Ваша мать – художница?
– Нет.
– Тогда ей следовало воспринимать это иначе.
Теперь попробуем ответить на вопрос, что же делало эти картины – независимо от того, нравились они или нет, – столь новыми и необычными. Тёрнер преодолел традицию, согласно которой пейзаж «разворачивается» перед глазами зрителя. На полотне «Пожар в английском парламенте» происходящее выдвигается за формальные границы изображения, пытается охватить зрителя с флангов, окружить. В «Метели» эта тенденция окончательно реализуется. Если позволить взгляду утонуть в формах и красках картины, то поймаешь себя на том, что сам невольно оказываешься в центре вихря, где нет больше ни «близкого», ни «далекого». Например, крен вглубь не является, как можно было бы ожидать, движением внутрь картины, а направлен вовне, к ее правому краю. Перед нами картина, которая устраняет внешнего наблюдателя.
Тёрнер-человек обладал, должно быть, незаурядным мужеством. Однако бесстрашие Тёрнера-художника по отношению к собственному опыту еще удивительнее. Верность опыту оказалась столь неумолимой, что Тёрнер сломал традицию, к которой принадлежал и которой гордился. Он перестал изображать частные случаи всеобщего. «Метель» – сумма всего, что может быть увидено и схвачено человеком, привязанным к мачте данного корабля. Кроме этого, нет ничего. Поэтому сама мысль о том, что это кому-то «понравилось», нелепа.
Вполне вероятно, Тёрнер и не рассуждал таким образом. Но он интуитивно следовал логике ситуации. Он – одиночка в окружении безжалостных