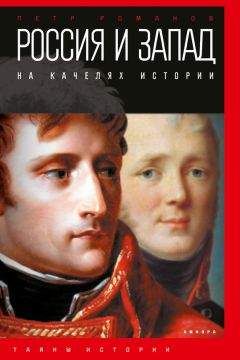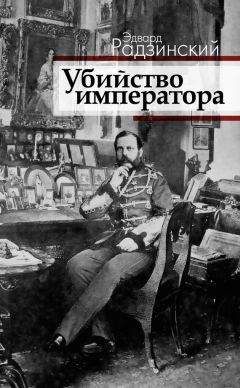Ревизионист славянофильства
Нет спора, Леонтьев смотрел на вещи куда трезвее Достоевского и Бакунина. Да и то сказать, восьмидесятые годы требовали трезвости. Сокрушительная неудача обоих крестовых походов на Константинополь, воспетых Погодиным и Иваном Аксаковым, Берлинский конгресс, цареубийство и «измена» Болгарии надолго (но, как мы еще увидим, отнюдь не навсегда) излечили «национально ориентированных» как от панславистских иллюзий, так и от мечтаний о спасении Европы посредством распространения на нее «русского духа». С наивным мессианизмом отцов- основателей было покончено. И самого даже Ивана Аксакова заподозрили уже в крамольном либерализме.
Николай Данилевский первый, как мы помним, возвел племенное различи^ между Россией и Европой в ранг естественноисториче- ского закона. Он отрицал само понятие всемирной истории, заменив его «теорией культурно-исторических типов» (на современном языке «цивилизаций»), между которыми столько же общего, сколько, допустим, между рыбами и ящерицами. И постольку для его ученика
Глава седьмая Три пророчества
философии. 1969. №8. См. также, как разительно отличается заключение Гаспарини от интерпретации, скажем, М.Ю. Чернавского, защитившего диссертацию о «Религиозно- философских основах консерватизма K.H. Леонтьева» (М., 2000), не говоря уже об удивительных выводах Д.М. Володихина. Впечатление такое, словно рассуждая об одном и том же человеке, все эти авторы имеют на самом деле в виду совершенно разных людей. Так, впрочем, как правило, и бывает, когда мыслитель, потерпевший при жизни сокрушительное поражение, становится после смерти мифом.
Леонтьева Европа уже вовсе не «вторая родина», которую предстояло спасать «от парламентаризма, анархии, безверия и динамита», но лишь вредный и опасный источник либеральной инфекции, от которого «северный исполин... заразился бактериями западной демократии... заболел либеральной горячкой»55.
Вдобавок Леонтьев уже не верит, в отличие от Достоевского, в спасительную силу «всемирного единения во Христе», содержащуюся якобы в православии русского простого народа, не верит даже и в сам этот простой народ, не желает перед ним «преклоняться и ждать от него правды». Ибо «русский простолюдин наш... вместо того, чтобы стать нам примером, как мы, националисты, когда-то смиренно и добросердечно полагали... стал теперь все более и более проявлять наклонность заменить почти европейского русского барина почти европейскою же сволочью с местным оттенком бессмысленного пьянства и беззаботности в делах своих»56.Короче, и на Европу, и на простой народ, и на все прочие иллюзии ретроспективной утопии, включая крестьянский мир и Земский собор, не говоря уже о панславизме, смотрит Леонтьев, в отличие от современных интерпретаторов, глазами трезвыми и беспощадными. Ему и в голову не приходит звать свой народ «домой», в Московию. В ней находит он лишь «бесцветность и пустоту, бедность, неприго- товленность». И к ужасу ортодоксальных славянофилов честно признается, что «домом» своим считает как раз проклятую ими петербургскую Россию. Ибо «начало нашего более сложного и органического цветения ... надо искать в XVIII веке, во время Петра I»57.
Само собою разумеется, с порога отвергает Леонтьев весь самокритичный нравственный пафос, унаследованный славянофилами от декабристов, их страстный протест против закрепощения соотечественников. Ему смешны пламенные восклицания Константина Аксакова, что «нравственное дело должно и совершаться нравственным путем, без помощи внешней принудительной силы»58.
К.И.. Собр. соч.: в 12 т. М., 1912-14. Т. 5. с. 293.
Там же. С. 246.
Там же. С. 116.
Цит. по: Венгеров С.А. Собр. соч. Спб., 1912. Т. 3. С. 64.
Леонтьев отвечает на это издевательской усмешкой опытного и циничного политика: «Нет ничего нравственного, а все нравственно или безнравственно только в эстетическом смысле». И потому «сам Нерон мне дороже и ближе Акакия Акакиевича или какого- нибудь другого простого и доброго человека»59.И вообще Леонтьев полагал себя «славянофилом на особый салтык» и, как мы уже слышали, заявлял с некоторой даже бравадой: «имею дерзость считать себя более близким к исходным точкам и конечным целям Хомякова и Данилевского, чем полулиберальные славянофилы неподвижного аксаковского стиля»60. И тех, «полулиберальных», презирал он откровенно, уверяя даже читателей, что «Государь Николай Павлович был прав, подозревая, что под широким парчевым кафтаном их величавых вещаний незаметно для них самих скрыты узкие и скверные панталоны обыкновенной европейской буржуазности»61.Не пощадил он, впрочем, и своего учителя. Данилевский был уверен, как мы знаем, что «для всякого славянина после Бога и святой церкви идея славянства должна быть высшей идеей, выше свободы, выше просвещения, выше всякого земного блага»62. Для Леонтьева это было лишь вредное «славянопотворчество», «славя- новолие», «славянобесие»63. Кто оказался прав в этом жестоком споре рассудила история, хотя сегодняшние утописты-консерваторы, отчаянно пытающиеся усидеть на двух стульях, предпочитают делать вид, что никакого такого спора и не было64.
На самом деле Леонтьев беспощадно разрушал самые основы пророчества Данилевского. Ибо, полагал он, грозит Всеславянский Союз «ничем иным, как все большей и большей и весьма пошлой буржуазной европеизацией; ибо вся славянская интеллигенция -
Цит. по: Бердяев Н.А. Леонтьев К. Париж, 1926. С. 27.
Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т. 6. С. 118.
Там же. Т. 7. С. 432.
Цит. по: Волжский А. Святая Русь и русское призвание. М., 1915. С. 36.
Леонтьев КН. Собр. соч. Т. 6. С. 119.
См., например, РепниковА.В. Современная историография российского консерватизма. www. nationalism, org
сплошь от Софии и Филиппополя до Праги - с ничтожными оттенками как две капли воды похожа на среднего европейца»[105].
Как раз напротив, «если славянофилы не желают повторять одни только ошибки Хомякова и Данилевского, если они не хотят удовлетвориться одними только эмансипационными ошибками своих знаменитых учителей, а намерены служить их главному, высшему идеалу, то есть национализму настоящему... то они должны впредь остерегаться быстрого разрешения всеславянского вопроса»[106].
Теперь, я думаю, читатель понимает, почему так больно и ядовито жалили его свои, бывшие друзья и соратники, отчаянно цеплявшиеся за обломки старой утопии. Он был единственным среди них, кто мужественно посмотрел в глаза правде и без обиняков осмелился бросить им эту правду в лицо. Он сказал то, во что они не смели поверить: время национал-либерализма миновало безвозвратно. Ваша утопия сгнила. Она смехотворна. Панславизм столь же нелеп, сколь и славянофильская мечта о совмещении самодержавия со свободой
И потому забудьте все, чему учили вас Хомяков и Данилевский, не говоря уже об Аксаковых. Ибо «раз вековой сословно-корпора- тивный слой жизни разрушен эмансипационным процессом - новая прочная организация на старой почве и из одних старых элементов становится невозможной... Нужен крутой поворот, нужна новая почва, новые перспективы и совершенно непривычные сочетания и, главное, необходим новый центр, новая культурная столица»67.
Как видим, Леонтьев и впрямь был величайшим из ревизионистов славянофильства (как в интерпретации старой гвардии, так и интерпретации молодогвардейцев). Подобно мощному бульдозеру, наехал он на их хрупкую средневековую конструкцию и доказал убедительнее, чем кто бы то ни было, что нет ей места в современном мире, что она безнадежный анахронизм. В этом и была его настоящая роль в истории русской мысли.
И именно этого не прощали ему бывшие соратники. Представьте себе теперь уровень образования наших «национально ориентированных», если одинаково провозглашают они сегодня своими учителями и Достоевского с Иваном Аксаковым, и Леонтьева, который, как мы уже знаем, ненавидел Достоевского и глубоко презирал Аксакова (за «честную глупость» и «травоядность»)68.
Консервативный революционер
Но ошибались и бывшие соратники Леонтьева: не от национализма призывал он их отказаться, но лишь от консервативного утопизма. Просто не было, с его точки зрения, другого способа спасти русский национализм от уничтожающей критики истории, сохранив в нем главное, нежели кардинально его ревизовать.
А в принципе что ж, в принципе он был с ними согласен. «Я больше его националист», - воскликнул он однажды в отчаянии в ответ на уничтожающую критику старого соратника69. «Избави боже, - добавил он в другом случае, - большинству русских дойти до того, до чего шаг за шагом дошли уже многие французы, то есть до привычки служить всякой Франции и всякую Францию любить!.. На что нам Россия не самодержавная и не православная? На что нам такая Россия? Такой России служить или такой России подчиняться можно разве по нужде и дурному страху»70.