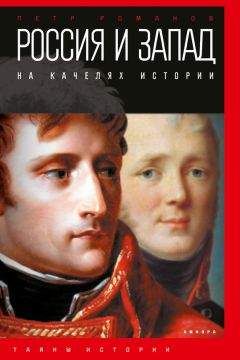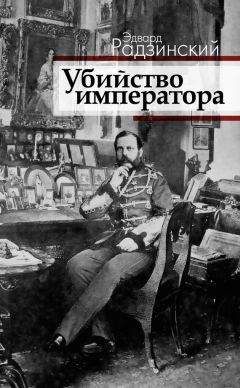Леонтьеву все эти инфантильные мифы были смешны. Он не верил в неразрушимость первоэлемента - тот разрушался на глазах. Фундамент русского византизма неотвратимо разъедала «либерально-буржуазная» ржавчина. И ужас был в том, что разрушало его то самое священное для него самодержавие, без которого он не мог представить себе Россию. Поэтому руки у него были связаны. Он не мог просто восстать против режима, как Бакунин (или как Зюганов). Он должен был с режимом этим работать, заставить его каким-то образом изменить самоубийственную политику, принять предложенную им программу консервативной революции. И не половинчатой, на которую только и оказались способны бюрократы Александра III, а радикальной, так сказать, ревизантинизации России, т.е. полного - и необратимого - возвращения ее в средневековье.
Теперь задача Леонтьева может быть сформулирована очень конкретно. Ему предстояло убедить глубоко охранительное правительство, для которого сама идея «революции» была синонимом катастрофы, в необходимости этой самой революции. Попробуйте прикинуть масштабы этой задачи, и вы тотчас убедитесь, что она и впрямь была головоломной.
А Леонтьев за нее взялся. И одно уже это свидетельствует, что как политический мыслитель он был на голову выше и Бакунина, и Достоевского (и своих сегодняшних толкователей). Прав Гаспарини, когда говорит, что «отвага его мысли была беспримерна даже для России, где люди вообще не робки»81. Разумеется, программа «ревизантинизации» включала и массу тривиальных, с точки зрения славянофильства второго призыва, лозунгов. Например: долой интеллигенцию! Ибо «гнилой Запад - да, гнилой, так и брызжет, так и смердит отовсюду, где только интеллигенция наша пробовала воцаряться»82. Или: долой всеобщую грамотность и вообще просвещение! Ибо «обязательная грамотность только тогда принесет хорошие
Gasparini Е. Ibid. Р. 68i.
Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. Спб., 1885-1886. т. 2. С. 13.
плоды, когда помещики, чиновники, учителя сделаются все еще гораздо более славянофилами, нежели они сделались под влиянием нигилизма, польского мятежа и европейской злобы»83.
Именно эти злосчастные декларации и сделали Леонтьева мишенью критических залпов как либеральной прессы, так и полулиберальных обломков старого славянофильства. В пылу этой слишком легкой охоты просмотрели они, однако, вещи куда более существенные. Например то, как осторожно, но настойчиво пытался Леонтьев приучить правительство и публику к мысли о неотвратимости феодального и самодержавного социализма.«Иногда я думаю (объективно и беспристрастно предчувствую), что какой-нибудь русский царь, быть может, и недалекого будущего, станет во главе социалистического движения и организует его так, как Константин способствовал организации христианства... Но что значит организация? Организация означает принуждение, значит благоустроенный деспотизм, значит узаконение хронического постоянного насилия над личной волей граждан»84.И снова: «Чувство моё пророчит мне, что Славянский Православный Царь возьмет когда-нибудь в руки социалистическое движение и с благословения Церкви учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной. И будет этот социализм новым и суровым трояким рабством: общинам, Церкви и Царю»85. А для тех, кто все еще не понял, о чем речь, он добавлял: «Социализм есть феодализм будущего... То, что теперь крайняя революция станет охранением, орудием строгого принуждения, дисциплины, отчасти даже и рабством»86. ^
Вот здесь и пригодилась ему пропасть между Россией и Европой, то бишь между «славянским» и «двухосновным романо-германским культурно-историческим типом», вырытая Данилевским. Да, - поучает Леонтьев свое туповатое правительство, - в Европе под социализмом понимают нечто совсем иное - страшное, нигилистическое. Но
Александров АЛ Цит. соч. С. 95.
Леонтьев К.Н. Письма к Губастову//Русское обозрение. 1B97. № 5. С. 400.
Там же. С. 417.
Леонтьев КН.Собр. соч. Т. 7. С. 500.
к нам-то какое это может иметь отношение? «То, что на Западе значит разрушение, у славян будет творческим созиданием»87. И рабством, конечно, и «хроническим постоянным насилием надличной волей граждан» - но и дисциплиной. И «орудием строгого принуждения». И возрождением «сословно-корпоративного строя». Одним словом, триумфом национального эгоизма или, чтобы уж совсем было понятно, национал-социализмом. То есть как раз тем, для чего мы, как уверен был Леонтьев, рождены. Понимаете теперь, почему Розанов назвал его «более Ницше, чем сам Ницше»?
А теперь конкретное политическое пророчество о том, как мог бы осуществиться этот план построения национал-социалистической России. Мы уже говорили, что одних внутренних контрреформ, с точки зрения Леоньева, для этого недостаточно, что прежде нужен крутой внешнеполитический поворот, способный создать «новую почву, новые перспективы и совершенно непривычные сочетания». Говорили и о том, что России жизненно «необходим новый центр, новая культурная столица». И тогда уже могло зародиться в уме читателя подозрение: да уж не идет ли опять речь о том самом злополучном Константинополе, о котором так отчаянно грезили и Бакунин, и Достоевский, и Тютчев? Что ж, и впрямь о нем, хотя Леонтьев никогда его Константинополем и не называл: «Таким поворотным пунктом для нас, русских, должно быть взятие Царьграда и заложение там основ новому культурно-государственному зданию».
Уже из этого очевидно, что речь здесь для Леонтьева не просто еще об одном, пусть и открывающем России ворота в Средиземноморье, территориальном приобретении. И даже не просто о символе возрождения России. Для него здесь решающий элемент плана «ревизантинизации» страны, призванный заменить не только вялые и неэффективные внешнеполитические телодвижения правительства, но и резко развернуть прочь от Европы всю культурно-политическую ориентацию страны. «Скорая и несомненная (судя по общему положению политических дел) удачная война, - предсказывал он в 1882 году, - долженствующая разрешить восточный вопрос и утвердить Россию на Босфоре, даст нам сразу выход из нашего нравственного и политического расстройства, который мы напрасно будем искать во внутренних переменах»88.
Вот что должно, согласно пророчеству Леонтьева, произойти дальше. «Само собою разумеется, что Царьград не может стать административной столицей для Российской империи, подобно Петербургу. Он не должен даже быть частью или провинцией империи. Великий мировой центр этот с прилегающими округами Фракией и Малой Азией должен лично принадлежать государю- императору (наподобие Финляндии или прежней Польши). Там само собою при подобном условии и начнутся те новые порядки, которые могут служить высшим объединяющим культурно-государственным примером для юоо-летней, несомненно уже уставшей и с 6i года заболевшей эмансипацией России»89.
Таким образом, архаический, «уставший» и «заболевший» византизм уступит место византизму новому. Старая Российская империя станет лишь формой, лишь пустым сосудом, предназначенным вместить в себя вторую, ревизантинизированую Россию. Ибо «будуттогда две России, неразрывно связанные в лице государя; Россия-империя с административной столицей (в Киеве) и Россия - глава Великого Восточного Союза с новой культурной столицей на Босфоре»90.
Знай Леонтьев отечественную историю получше, он и сам бы, наверное, увидел, что изобрел уже изобретенное. А именно опричнину. Иван Грозный ведь тоже создал «две России, неразрывно связанные в лице государя». И одна из них тоже принадлежала лично царю. Та первая страшная попытка «византинизировать» страну обошлась ей непомерно дорого. Когда цена была подсчитана поздней- *
шими историками, оказалось, что она стоила жизни каждому десятому россиянину. Впрочем, то было в реальной истории, а мы говорим всего лишь о несбывшемся пророчестве.
Но говоря о нем, читатель не должен упустить из виду знаменательный факт, что новая административная столица империи планируется вовсе не в чиновничьем Петербурге и даже не в славянофиль-
QQ
Там же. С. 422 (выделено автором).
Там же (выделено автором).
Там же. Т 5. С. 432 (выделено автором).
ской Москве, но в южной колыбели отечественного византизма. Это не оговорка (у Леонтьева оговорок не бывает), а важная часть все того же плана «ревизантинизации» страны. На самом деле Леонтьев непрочь вообще отдать Германии весь прибалтийский Северо-Запад, обменять, так сказать, Финский залив на Босфор. «Нет разумной жертвы, которой нельзя было бы принести Германии на бесполезном и отвратительном северо-западе нашем, лишь бы этой ценой купить себе спокойное господство на юго-востоке, полном будущности и неистощимых как вещественных, так и духовных богатств»91.