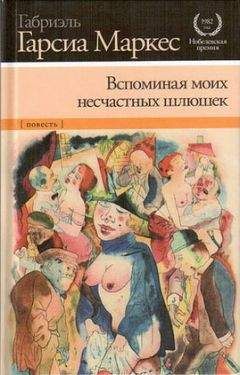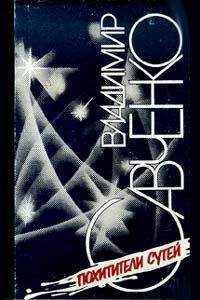Мотоцикл заводил худощавый сержант.
Оркестр поиграл, поиграл и собрался.
Расходились.
Дуся с Иваном Петровичем пошли дальше в парк.
Парк утеривал свои аллеи, становился леском, чисто выкошенным кем-то с опушек и между кустами.
— А я, — сказал Иван Петрович грустно, — десять лет не ходил по траве без сандалий. Это зря?
— Ясно, что зря, — согласилась Дуся сразу. — Вы дайте и телу немного пожить, расправьте его, искупайте в воде. Надо и телу, не всё для себя.
— Да я купаю, — отвечал Иван Петрович. — Купаю, но мало.
Возле самой опушки был пруд. Вода в пруду лежала вровень с берегами. Как раз в ту минуту, что они проходили, рыбак поймал, наконец, свою рыбку.
Лодки ближнего военного санатория стояли строем на глади пруда, красиво выкрашенные в цвета офицерских мундиров.
Вдаль за прудом открывались поля, черно запаханные под озимые. На пашне бегали по черноте стаи чаек.
— Чего они там делают? — неподдельно удивился Иван Петрович на чаек.
— Они ищут червей, — отвечала Дуся.
— Что, червей? Для чего же им черви? Они рыбой питаются, как нам известно?
— А чтобы после ловить на них рыбу, — сказала Дуся без всякого смеха.
— Я полжизни в реке провела, — сказала Дуся снова. — Я про рыбу все знаю.
И верно, про рыбу она знала все.
Близко в овраге проходят пути. Паровозы везут длинный поезд вдвоем. Кудрявая стрелочница, высоко оголившись, протирает рельсы грязной тряпкой у себя на участке, чтоб они не стопорили на ходу поезда. В жидкой траве, на уклоне в овраг, стоит, сощурившись, молодой человек и крутит меж пальцами листик на сухом черенке. А по зеленой тропинке, шириной в одну неширокую ступню, бредет осторожная серая кошка.
В небе начинается ежедневная игра заката в разноцветные краски, которую мы наблюдаем обычно, только если настроены для глядения вдаль.
Вот и опять Иван Петрович был на улице, вернее, ощущал, что он на улице, было у него такое острое понятие об этом, было настроение, но уже не на грустной, а скорей на задумчивой, более прочной основе. Все, что не дом, называл для себя Иван Петрович улицей.
«Глядя на ближнее, на бумагу, на книгу, на людей, повстречавшихся в улице, — размышлял Иван Петрович очень остро, — можно нарочно так расфокусировать свой глаз, что не увидишь того, что перед тобой, или смутно увидишь, в двойных силуэтах. Но дальний взгляд невозможно искусственно затуманить, нельзя самому для себя исказить; дальние люди, явления мира (то есть те, что являются кругом, вдалеке), увидятся так, как мы можем их видеть, — возможно только отворотиться и не смотреть на них вовсе.»
Иван Петрович отворотился, стал смотреть на Дусю и повел ее вдаль.
За дорогой парк продолжался опять. Он стал еще диковатей и гуще. Попадались березы на белом колене; молодые, лохматые вдоль ствола тополя; круглые, масленые листья кустов, растущих зелеными из самой земли; небольшие поляны в малиновых цветиках — среди желтой, забытой, стоялой травы.
Они вышли в этот малиновый цвет и увидели в центре поляны шалаш. Составленный из разных повянувших веток, шалаш стоял прочно на теле земли. Он был брошен людьми, в нем давно никто не жил, но внутри сохранилась подстилка из трав. Две плетневые стены подпирали друг друга, не давая упасть шалашу под себя.
«Как же образуется шалаш? — пронеслось у Ивана Петровича. — Берут две стены и насильственно каждую нагибают к противной. Стены падают, но наткнувшись одна на другую, уперевшись друг в друга, они удерживаются на месте и дальше больше не упадут никогда, продолжая косо стоять опершись. И в этом шатком объеме вполне можно жить, даже и очень великому человеку, — как то и было однажды в недавнее время.»
Ему захотелось забраться в шалаш; он вспомнил одно из главных впечатлений от детства, одну из немногих поездок в деревню. Он сидел на сеновале один, и шел дождь, он накрылся желтым бабушкиным полушубком и смотрел в небольшое окошко на дождь. Сеновал протекал, через щель в потолке по одной то и дело стекали крупные капли. Капли стукали гулко в дубленую кожу и прибавляли Ивану Петровичу — а тогда просто Ване — чувства удовольствия от крепкой защиты.
«Дождь идет, но не может ничего со мной сделать!» — думал он непрерывно одну только мысль.
Пришла соседская девочка Таня, как ее все называли — Танюша, такого же возраста, что и он, лет тринадцати, а может быть, несколько больше. Танюша забрала у него четверть шубы, укрыла себя по плечам и затылку и тоже стала смотреть за окно. Сеновал был общий на целый их дом, в котором у бабушки было пол дома; на другой половине жил Танин отец.
Ване нравилась она, как впрочем нравились многие, с кем он учился и вырос. Но уезжая в город, он только ее вспоминал по-особому и чёрт знает что себе с ней представлял.
Он представлял, что, конечно, будет лето и не в городе, они с Танюшей разденутся где-нибудь в комнате, разденутся не так, как на пляже, а со значением, и останутся голые. Снаружи обязательно хлынет нестрашный им дождь, будет громко колотить по чему только можно. Он тронет ее неодетый тонкий бок, а она дотронется ему до плеча, потом до ребер. Так легко они будут касаться друг друга и вздрагивать кожей от холодного пальца. Это было все, что он тогда представлял, но уже тогда ему казалось самым главным, тем, что и решит, что он будет чувствовать при этом — как они придут к такому смелому решенью, какие скажут слова перед тем, которые могут их заставить устыдиться — не друг друга, а себя, внутри, за неловкость и поспешное стремление скорее, словно к делу; которые могут их сделать врагами и уже через вражду добиваться того, что рисовалось обоим; которые могут, наконец, оставить им для пущей их радости небольшое смущение, а вместе со смущением позволят им так много доверять друг другу, так преодолеть недоверие и страх перед реакцией другого, что интересность иного человека, понимаемая через открывшиеся очертания и нежность тела, касание холодных пальцев, вздрагивание, через замедленное течение суток, устроила бы им такой счастливый день, которого еще не достигали никакие люди.
Но так у него никогда не случилось с Танюшей. Так у него не случилось ни с кем и никогда, хотя уже многое с ним в общем случалось.
И сейчас ему очень захотелось в шалаш, только он не знал, как отнесется к этому Дуся.
И словно узнав, что он только что думал, Дуся нагнулась и села в шалаш. Иван Петрович поспешно забрался туда, сколько мог. Ноги ступнями вылезали наружу. Дуся немного нависала над ним. Он неуверенно взял ее горстью за шею, потихоньку приближая к себе ее большой, от природы малиновый рот. Сильная шея поддавалась не вдруг, и Иван Петрович уже приготовился к обычной досаде. Но Дуся сама забрала его рот к себе в губы и долго, хорошо поцеловалась с Иваном Петровичем, а потом засмеялась и утёрлась запястьем.
Иван Петрович тоже хохотнул на себя, на свою неуверенность, которая была и вся вышла. Он вдруг зашелся от нежности к Дусе за ее понимание; нежность хлынула в нем от ушей и до пяток, заходила, защемила, заискала, где выйти. Он почувствовал, что самое большое желание — повалиться Дусе головой на колени. И он позволил себе это желание и повалился ей головой на крутые колени, чего никогда не позволил бы прежде. Он вывернулся головою по этим коленям, обхватил их назад, через плечи, руками, стал глядеть на Дуси- но лицо снизу вверх, на ее округлый подбородок, губы, косо уходящие в рот, на ее подвешенные волосы, застилавшие глаз. Он потянулся и убрал их от глаза. Больше ничего, он чувствовал, ему не хотелось. Снизу поднимался запах прелой травы, какие-то веточки отделялись и сыпались вниз, на лицо, тонкая сухая шелуха струилась в воздухе от движений, колебавших шалаш.
Что-то чуть не попало в глаза, но глаза успели прикрыться; что-то втянуто в нос, и в носу запершило. К глазам подкатились, не пролившись, легкие слезы, грудь поднялась в непомерном, чудовищном вдохе, и Иван Петрович громко и счастливо чихнул на всю поляну раз и другой. Он остановился, зажмуренный, ожидая третьего раза, но третий раз всё не шел.
Дуся засмеялась.
— Вы такой же, как и я. Вам тоже не хватает одного чиха до счастья, — сказала она.
Наморщив щеки, подняв губы к носу, ждал Иван Петрович, но действительно не дождался и понемногу огорченно распустил опять лицо до гладкого.
— Да, — ответил он Дусе, удивленный. — Пожалуй.
И тут у них с Дусей произошел настоящий разговор двух людей, когда каждый говорит о себе, а другому это как раз интересно.
А потом у них этот разговор продолжался всю жизнь.
— А я... — говорила Дуся. — У меня...
— Нет, а я... — говорил Иван Петрович.
— А вот я, например, — говорила снова Дуся.
— Да, да! — подтверждал Иван Петрович. — И я!
По кустам кто-то шлялся и глухо шумел.
«Надо бы убраться из этого места», — тревожно подумалось Ивану Петровичу вдруг.