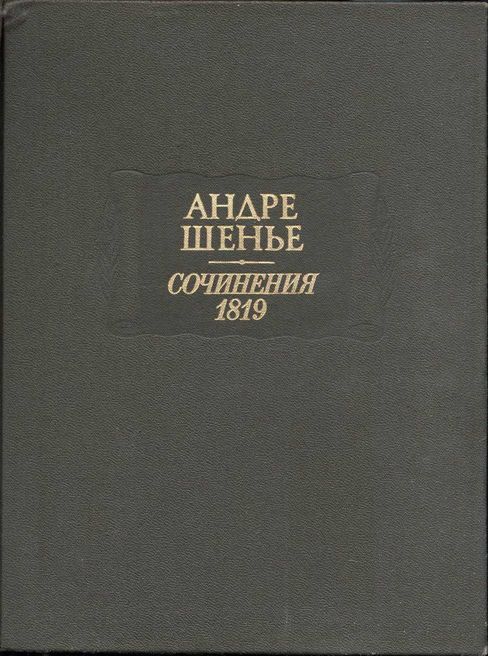потом.
“Бог с луком золотым, услышь мои моленья!
Кларосский Аполлон, [165] я б умер, без сомненья,
Когда б не направлял ты мой незримый путь!” —
Так произнес слепец и, вздохом полня грудь,
Добрел до рощицы; на камень, отдыхая,
Присел. Три пастуха — из этого же края —
Сбежались, слыша лай собак сторожевых,
Что здесь невдалеке хранили стадо их.
Лишенного всех сил, усталого, больного
10 От разъяренных псов они спасли слепого
И говорили так, в сторонке, меж собой:
“Что это за старик, беспомощный, больной?
Не с неба ль он сошел, где боги обитают?
Горды его черты. А с пояса свисает
Кифара. И когда он говорит, ему
Лес, небо и волна внимают одному”.
Старик прислушался и, узнавая звуки
Шагов, к ним протянул, смущенья полный, руки.
“Не бойся, путник нас! — пастух сказал в ответ. —
20 Хотя ты телом слаб и в рубище одет,
Ты, без сомненья, бог — таким в своем обличье
И в старости своей ты наделен величьем.
Но если смертный ты — доверься смело нам.
Волною принесен ты к нашим берегам,
А мы всегда добры к настигнутым бедою.
Не полно милости даруются судьбою:
Твой голос горд и чист — он дар богов прямой,
Зато ты огражден от света слепотой.
“О дети (слыша вас, я знаю, что вы дети)!
30 Вы рассудительны, разумны речи эти,
Но осторожен тот, кто нищетой сражен.
Всегда насмешки ждет или коварства он.
Нет, сравнивать меня вы не должны с богами;
Морщины, седина, болезнь — судите сами —
Таким ли божество является для глаз?
Я смертный, как и вы, но я несчастней вас.
Коль есть еще бедняк, который столь бездомен,
Ему лишь одному, наверно, я подобен.
Хотя, как Томирис, не спорил с Фебом я [166]
40 О том, что струн его прекрасней песнь моя,
Хоть не был обречен я Эвмениде черной,
Как некогда Эдип за свой удар позорный,
Небовластители на долю дали мне
Лохмотья, слепоту и жизнь в чужой стране”.
“Возьми! Тебе наш дар, наверно, будет нужен!” —
Сказали пастухи и что с собой на ужин
Забрали в козий мех, чья шерсть черна, тонка,
Все разом ссыпали в колени старика:
Пшеничный чистый хлеб, созревшие оливы,
50 В плетенке свежий сыр, миндаль, инжир и сливы.
И псу-поводырю, что, вымокший, прилег
К коленям старика, оставили кусок.
Он, сброшен с палубы, за быстрой плыл ладьею
И к берегу прибит был тою же волною.
“Винить свою судьбу не вечно нужно нам.
Я благодарность шлю Юпитера сынам.
Отец и мать должны всегда гордиться вами.
Позвольте ж старику ощупать вас перстами.
Они — мои глаза. В вас столько есть души,
60 По вашим голосам сужу — вы хороши,
В вас столько доброты с изяществом врожденным.
Могу сравнить ваш стан я с пальмою Латоны, [167]
Которую в былом я некогда видал.
К святому Делосу однажды я пристал,
И там пред алтарем, у храма Аполлона
Она, дитя небес, стояла вознесенной.
Вы, как она, свежи, щедры и высоки —
И вашу доброту запомнят бедняки.
Ведь старшему из вас едва тринадцать било.
70 Когда еще вас мать на свет производила,
Я был почти старик. Садись сюда со мной
Ты, самый старший. Я откроюсь пред тобой.
Будь добрым к старику!”
“О старец благородный,
Как ты сюда попал? Ведь вал морской свободно
Шумит со всех сторон у нас в родном краю”.
“Купцами из Симэ [168] был принят я в ладью —
Карийских берегов [169] бежал я, чтоб увидеть
Страну, где уж никто не мог меня обидеть.
Искал я лучших дней и добрых я богов —
80 Надежду человек всегда питать готов.
Но я не мог платить и кормчим столь бесчестно
На берег высажен в стране, мне неизвестной”.
“О старец благостный! Ужель ты им не пел?
Ты б песней мог смягчить свой горестный удел”.
“Нет, дети! Соловей, чье пенье так прекрасно,
Задобрить коршуна старался бы напрасно.
Скупцам и богачам, исполненным вражды,
Таланта не понять; они ему чужды.
Вот с этим посохом скользящею тропою
90 Один, в молчаньи брел я тихо вдоль прибоя
И слушал издали блеянье чьих-то стад,
Что колокольчиком пастушеским звенят.
Потом я лиру взял, и эти струны сами
Душе откликнулись под слабыми перстами.