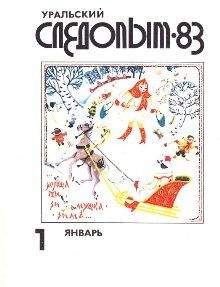«.чтобы переговорить. с представителем министра внутренних дел Империи».
Катюша провожала мужа, как в дальнюю дорогу. По привычке сунула в карман револьвер. И тут же смущенно всплеснула руками, вытащила обратно: какое уж оружие.
— У меня поручение от барона фон Плеве, — буднично произнес консул Карцев. — Вячеслав Константинович, ознакомившись с вашим письмом, просил меня передать: вы должны подать прошение на Высочайшее имя.
— Когда же? — спросил, чтобы проверить, есть ли у него голос.
— Следует поспешить, — тем же тоном ответил консул. И неожиданно потеплел глазами: — За вас хлопочут. В английских и французских газетах напечатаны статьи в вашу защиту.
«Это Новикова, конечно, она. Добрый ангел! Только Катюша порой смотрит ревниво.»
— А в русских газетах бранят.
— Ничего, перемелется. Пишите Царю.
Он писал это прошение почти неделю. И всю неделю не выходил из квартиры. Саша капризничал, словно чувствовал, что творится с отцом. Лез в его комнату, просил починить деревянную лошадку. Катя насильно забирала мальчика, а Тихомиров, срываясь, кричал вслед, чтобы больше не смели показывать отвратительную игрушку, которая мастью напоминает страшного жеребца Варвара, послужившего кровавым революционным делам.
«Государь всемилостивейший!» — надрывалось сердце в мольбе.
Он писал, и перед ним проходила вся его жизнь, охваченная революционной горячкой, жизнь человека, «утратившего сознание исторических прав и обязанностей». Себя не щадил, не таил ничего.
«Таким путем я пришел к пониманию власти и благородства наших исторических судеб, совместивших духовную свободу с незыблемым авторитетом власти, поднятой превыше всяких алчных стремлений честолюбцев. Я понял, какое драгоценное сокровище для народа, какое незаменимое орудие его благосостояния и совершенствования составляет Верховная Власть, с веками укрепленным авторитетом. И горькое раскаяние овладело мною.»
Писал, понимая, что нет прощения, и все же взывал к милости, умоляя отпустить «бесчисленные вины», позволить вернуться в Россию. А еще просил узаконить его брак и признать детей, безвинных жертв его ошибок и преступлений. Одного желал бы: изгладить из сердца тяжкий кошмар безумного прошлого.
Опять потянулись томительные дни. Прошло два месяца, но ответа от Государя не было. И это промедление, похоже, сулило отказ. Что ж, если Царь не считает возможным его простить, то получается, что он, Тихомиров, подлежит наказанию. Признавая себя подданным (а в прошении — так!), он не вправе не подчиниться Высочайшей воле. Остается одно: пусть везут в Россию, пусть арестовывают. А семья? Сашурка, полюбивший русскую церковь, русские калачи? Хорошо, нужно просить, чтобы и им позволили вернуться; поедут к матери в Новороссийск, а он. А его — под замок в одиночку Алексеевского равелина, на вечную карийскую каторгу? Или, как нынче принято, в Шлиссельбург? А скорее и того проще: приговорят, да и вздернут под барабанную дробь с серым мешком на голове.
Решил: еще неделя, и сам пойдет в консульство — сдаваться.
.Александр III снова перечитал последние строки тихо- мировского прошения. Подошел к окну, всматриваясь в зеленовато-бурую толчею волн на осенней, продутой зябкими ветрами Неве. «Воистину, безумная жизнь.», — проговорил как бы про себя.
— Как Вы сказали, Ваше Императорское Величество? — приосанился явившийся во Дворец с докладом министр внутренних дел граф Толстой.
Государь не ответил. Тяжелым шагом вернулся к столу, положил мощную ладонь на прозрачную крышку резной шкатулки — той самой, в которой семь лет хранил память о страшном дне, когда бомба народовольцев убила его отца, Александра II: опаленные взрывом куски кареты, осколки мутного стекла, клочки серо-голубого шинельного сукна с застарелыми пятнами крови. Хранил в Гатчине, теперь в Зимнем.
Царь раскрыл шкатулку, провел дрогнувшими пальцами по лоскуткам и щепкам, впитавшим динамитный дух, горько вздохнул и снова повернул к окну потемневшее лицо. Толстой чувствовал, знал, какая борьба идет в августейшем сердце. И потому молчал, боясь суетным словом нарушить почти священную тишину.
— «Прощайте, и прощены будете.» Так? — тяжело, медленно произнес Государь. — Что думаешь, Толстой?
— Иные горячие головы предлагают повесить злодея, — осторожно начал граф. — Их, считаю, следует остудить. Покаянное прошение Тихомирова, его книжка — тоже бомба, да только идейная. Подложить ее под революцию — разнесет в пух и прах!
— Правильно. Поступок предводителя «Народной Воли» — утешительный факт. Подготовь ему ответ и представь мне. Отталкивать Тихомирова не следует, он может нам пригодиться.
10 ноября Государь утвердил доклад министра внутренних дел: «.полное помилование Л.Тихомирова, с тем чтобы по возвращении в Отечество он был водворен в определенную местность под надзор полиции сроком на 5 лет».
Определенная местность — это Новороссийск.
.— Сашурка, милый, отчего не спишь? — встревожился Тихомиров, глянув на часы: еще и 6 утра не было, а сын поднялся и в ночной рубашке уже пробрался к нему в кабинет.
— Головка болела. Только не сильно.
Как ножом по сердцу.
Бросил писать дневник, прижал Сашу к себе, покрывая поцелуями мягкие русые вихры, жадно втягивая дрогнувшими ноздрями родной, неповторимый детский запах.
— А теперь — полегче? — спросил с деланной бодростью.
— Да, папуся, — утешил привыкший к страданиям мальчик. — Нас простили? Мы скоро поедем домой?
— Скоро. Нынче только схожу к одному важному господину. Он — консул, даже генеральный.
— На поезде поедем, с окошками? А впереди — паровоз, да? С такой трубой, с длинной.
— Да, Сашурка, во-о-от с такой трубой! — показал руками размеры трубы; шагнул к печке (Павловский добыл целых две!), кинул угля в раскаленный малиновый зев.
— Ур-а! Те. Те-перь на-чи-на-ю-ю-ю но. но-ву-ю жи. жизнь, — по складам, нараспев читал сын в дневнике только что написанные строки. — Ой, папа, ты говорил, что нехорошо читать чужое, да? — спохватился, смущенно пряча лицо в ладони.
— Ничего, сегодня можно. Слушай: «Нужно лишь стараться, чтобы эта новая жизнь загладила все глупости и грехи прошлого. Устал, нет мочи. Завтра куча писем во все концы.»
Саша строго и серьезно смотрел ему в глаза.
В девять утра Тихомиров был уже у консула. Карцев поздравил его с приветливой улыбкой. И тут словно кто-то дернул бывшего революционера за язык — рассиропился, отогрелся за чаем, осмелел:
— Хочу написать Дурново. Мои обстоятельства требуют, чтобы я выехал в Россию не раньше весны.
От дерзости этой Карцев даже из-за стола вскочил.
— Да как же можно, Лев Александрович? Вас же всемилостивейше. И ждут. А вы. Что за капризы? Отправитесь тотчас же после Рождества. Один. Семья выедет позднее, когда будут выправлены бумаги.
Тихомиров уезжал сырым январским утром. На вокзале его провожали только свои — Катя и Саша; никаких друзей больше в Париже не было. К Тигрычу, к великану сумрака — столько бы набежало! Но Тигрыч давно исчез, растворился в зимней дымке Ла-Ренси, переулков Монруж или Пор-Ро- яль, — это уж как кому нравится.
А Петербург... У него чуть было не разорвалась грудь, когда он вдохнул знакомый, студено-волглый невский воздух. В столице туманно и звонко куржавились серебром крещенские морозы. Конки скрипели ледяным железом, кареты проносились с заиндевевшими окошками, раскрасневшиеся лихачи в толстых синих кафтанах срывали сосульки с усов, над спешащими толпами висел пар, и такой же теплый пар валил из-под дверей кухмистерских и трактиров.
Здесь не осталось дома, где бы его ждали, и Тихомиров с вокзала поехал в «Большую Северную Гостиницу». Смутная тревога не покидала ни на минуту. Со стороны казалось, что он куда-то спешил.
Лакей принес в номер чаю; обжигаясь, Лев наскоро выпил его, и снова надел пальто — парижское, не слишком-то пригодное для русской зимы. Торопливые ноги сами вынесли его на улицу: «Да-да, я должен. Сейчас же. Скорее, туда.»
— Извозчик! — крикнул срывающимся голосом.
Он вышел у Петропавловской крепости, но не для того, чтобы найти окно каземата, где сидел, и предаться воспоминаниям. Лев не хотел этих воспоминаний, он вычеркнул их.
Теперь, оскальзываясь на снежной дорожке, он поспешно шел к Петропавловскому собору. Открыл тяжелую дверь, шагнул в каменный полумрак. Здесь была царская Усыпальница. Тихомиров, сдерживая дыхание, двинулся между белых мраморных надгробий — к одному-единственному, темному, сделанному из зеленой алтайской яшмы. Именно — из яшмы: он давно знал об этом из газет.
Еще немного. Кажется, здесь.
Прочел: «Александр II Николаевич (1818 — 1881), император».
— Простите меня, Ваше Величество, — вышептали сведенные стужей губы. — Я виноват. Крепко виноват. Вот пришел поклониться.