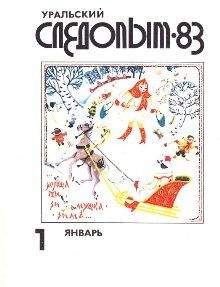Записал в «памятной книжке»: «25 июня, воскресенье. В 6 часов вечера окрещен наш Сашура. Восприемники — Борис Дмитриевич Саблин, отставной поручик, инженер; восприемница (заочно) Ольга Алексеевна Новикова, а за нее присутствовала мама. Саша держал себя так умно, мило, так серьезно относился к св. таинству, что сердце радовалось. Слава Богу! Давно не было, и не помню такого счастливого дня, как сегодня.»
В Петербурге от Тихомирова по-прежнему ждали рецептов по искоренению революции. А он прислал статью для «Нового времени» — «Несколько замечаний на полемику с эмигрантами», где не просто возражал бывшим соратникам, но и рассуждал о православной монархии, о том, что к деспотизму может скатиться всякая форма власти, и демократия в особенности; писал о том, что тревожило в последние месяцы, — Россия еще далека от высшего фазиса монархического развития, что подлинное самодержавие — это творческая идея русского будущего. И работы тут невпроворот.
Публикация вызвала раздражение в правительственных кругах: не рано ли лезет вчерашний социалист-нелегал с советами по усовершенствованию государственности? Видите ли, идея у него: целую программу создать — положительных преобразований в России, дабы защитить, сберечь монархию от разрушительных замыслов радикалов-террористов. Пугает, пророчествует выскочка: революция только ошеломлена, но может воскреснуть хуже прежнего, если не воспользоваться 5—6 годами затишья.
Тогда Тихомиров пишет знаменитый «Очередной вопрос», напечатанный в «Московских ведомостях». И это была новая бомба, грохнувшая не так громко, как покаянная брошюра, но все же потрясшая консерваторов, привлекшая внимание к имени автора.
Он говорил о почве, из которой вырастает чертополох революции. И почва эта осталась нетронутой: мало одних репрессий. С болью сердечной писал о молодежи, сбиваемой с толку духом «отрицания и сомнения», и предлагал — наступать, наступать! Нигилисты ведут агитацию, а у монархистов должна быть своя агитация, русская, национальная, и не менее живая, горячая. Книги, доступные библиотеки, лекции благонамеренных профессоров. Да мало ли чего!
Упрекал консерваторов, стоявших у трона (не боялся: что значит — из отчаянных нелегалов!): мало делаете, господа, для противостояния революции и либерализму, вяло пропагандируете величие монархической идеи. Выходит, сами повинны в успехах социалистов. Пускай и косвенно.
И — началось: телеграммы, письма.
«Вас хотел бы видеть обер-прокурор Священного Синода Победоносцев.», «Директор департамента полиции Дурново с удовольствием прочел публикацию.», «Влиятельные лица ходатайствуют перед Государем о Вашем освобождении от гласного надзора полиции.»
Свершилось: в июле 1890-го Царь помиловал его. Тихомирову разрешалось жить в любом городе Империи.
К ликованию Саши они теперь вместе ехали в поезде с буфетом, где продавались золотистые калачи, печатные пряники, и вагоны весело тянул паровоз с длинной пыхтящей трубой.
Все ближе был Петербург, и все беспокойнее колотилось и ныло сердце: что-то ждет их, припавших к окнам, впереди?
А в столице — встречи, встречи.
На Литейный он приехал точно к назначенному часу. Легко нашел нужный дом, взбежал по лестнице. Лакей со строгой почтительностью распахнул перед Тихомировым дверь.
За окном сиял редким питерским солнцем августовский день, а в просторном кабинете царил полумрак, и из этого полумрака шагнул к нему навстречу худощавый, как юноша, человек — весь в темном, но со светлым высоким челом, с пристальными умными глазами, вопрошающе улыбающимися за стеклами круглых очков. И какая-то настороженность и всезнающая печаль была в этом взгляде. И еще что- то было, но тут уж додумать Лев Александрович не успел, только мелькнуло: вот он какой, Победоносцев, обер-прокурор Священного Синода.
— Читал вас. Немало душеполезного извлек, — суховато начал хозяин кабинета. — Да только к князю Мещерскому не ходите. Ведь он звал вас в свой «Гражданин»?
— Звал, — поперхнулся чаем Тихомиров: откуда только известно? — Но почему же? Князь монархист, устои охраняет. Его газета.
— Да газета его — сброд чего угодно. Без идеи, без убеждения. Лавка битой посуды, выдаваемой с важностью за первый сорт! О России рассуждает.
Обер-прокурор отодвинул стакан, поднялся и мерно, бесшумно заходил от стены к стене.
— Что они о России знают! Россия. — почти выкрикнул, исторгая боль: — Да это же ледяная пустыня, и по ней ходит лихой человек! Понимаете?
Вздрогнул: неужели прав Леонтьев, с которым наконец-то познакомились. Только руки пожали, приглядеться не успели, а тот сразу о Победоносцеве: вот, дескать, полезный человек, но как? Он точно мороз — препятствует гниению, но расти при нем ничего не будет. Не только не творец, но даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом тесном смысле слова. «Мороз, я говорю, сторож, бездушная гробница, старая «невинная» девушка, и больше ничего!»
Но что же делать, чтобы росло? Где она — «цветущая сложность?» Творческая идея русского будущего?
— Я сам москвич, а Петербурга не люблю. Живу тут словно в гостинице, на вокзале, — опять сел рядом Победоносцев. — Холодно, бесприютно.
«Вот откуда — пугающая ледяная пустыня!»
— Переезжайте-ка в Москву. В «Московские ведомости» поступите. Я дам рекомендации. Это вам ближе. Там был Катков, теперь Петровский. Но Петровский и в подметки не годится своему предшественнику...
Снова двинулся — взад-вперед: телом невесомо-легкий, а ход тяжелый, усталый; шаг изработавшегося человека, верящего в свои многотрудные дела, но и в печалях надсаженного сердца осознающего их тщету; смиренно понимающего: мы проиграем, но бороться надо, потому что все равно победит Христос.
— Вы, Лев Александрович, в бездну нигилизма заглянули и отпрянули, — остановился над Тихомировым. — И парламент европейский видели. Вот уж орудие всякой неправды, источник интриг. Согласны?
И, не дожидаясь ответа, заговорил, торопя горячие, давно обдуманные слова. О том, что при демократии правителями становятся ловкие подбиратели голосов, со своими сторонниками, механики, искусно орудующие закулисными пружинами, и пружины эти приводят в движение кукол на арене выборов. Ах, уж этот парламент—самообольщение ума человеческого! Вакханалия тщеславия и личных интересов. И это выборное начало. Но кто по натуре своей способен к бескорыстному служению общественной пользе в сознании долга, — да разве он пойдет заискивать голоса, разве станет воспевать хвалу самому себе (это ж психиатрия! Ломброзо!) на выборных собраниях, нанизывая громкие и пошлые фразы. Лучшим людям противна выборная процедура. От нее не отворачиваются лишь своекорыстные, эгоистические натуры.
А ведь прав он, тысячу раз прав! И еще наше многоплеменное государство, в котором все порывы эгоизма и раздражения в силах устранять только неограниченная монархия. Демократия не справится, нет; инстинкты национализма — вот разъедающий элемент, и он ослабит и со временем разнесет страну. Многие ли понимают это?
.Зимней ночью под заоконный шелест метели в гостинице «Виктория», что на Страстном бульваре, сидели и беседовали два человека — Лев Тихомиров и Константин Леонтьев, который жил теперь в Оптиной пустыни, но, наезжая в Москву, всегда останавливался в этом номере.
А Леонтьев — он из тех, у кого ангел и черт вечно сцепившись в отчаянной борьбе. Но у него этот ангел не изгнан, не уступает. Вот, вот: не уступает, нет!
В молодости пылкой на острове Крит ударил французского консула — хлыстом по лицу: оскорблял Россию. Это он, уже больной и хилый, в жутковатом прозрении предсказывал коммунистическую революцию. И еще предвидел всеобщую войну. Надеялся на эпоху Александра III и жил предчувствием катастрофического темпа истории.
Голоса в номере звучали глухо, негромко.
— Общество? Тайное? — поднял седые брови Леонтьев.
— Именно! Мы должны создать подпольную организацию, — завращал вспыхнувшими глазами Тихомиров. — Я же старый заговорщик, с опытом, — горько улыбнулся.
— Да неужто за прежнее взялись? Мало вам? — ахнул Константин Николаевич.
Прежнее, не прежнее, да только знал бывший Тигрыч, о чем говорил.
Он уже хорошо понимал, чувствовал, до боли сердечной чувствовал: над монархией, над самым божественным, самым человечным способом правления, нависла смертельная опасность, и опасность эту пока не все видят — даже и те, кто верен престолу. Выходит, нужна, немедленно требуется организация консервативных сил — для борьбы за утверждение истинных идеалов самодержавия и православия, для жесткой схватки с революционерами и либералами. Увы, консерваторы старой закалки пока в полном разброде, а новые еще недостаточно определились, чтобы слиться воедино.