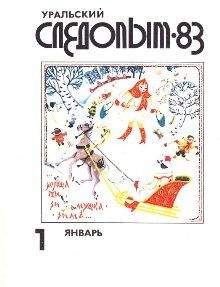Повинуясь охваченному тоской сердцу, он встал на колени перед надгробием, просительно положил ладонь на холодную плиту, под которой лежал тот, кого они убили. Да, не он, Тихомиров, бросил бомбу, но он и не остановил метальщиков в то Прощеное воскресенье.
— Худо вам, человек милый? — пожилой служитель тронул его за плечо.
— Да, то есть, нет. Ничего. Ничего. Мне надо.
— А-а-а. Ну, коли надо, то и ладно. Побудь, побудь. — деликатно зашелестел валенками, удаляясь, старик.
В Департамент полиции он прибыл, когда ранние петербургские сумерки уже зажгли первые газовые фонари. Директор Дурново принял его без проволочек. Разговор затянулся до глубокой ночи. Петр Николаевич призывал Тихомирова все силы бросить на борьбу с крамолой через официальную русскую печать. Необходимо в пух и прах разбить оставшихся нигилистов, сорвать с них маски. Разумеется, от раскаявшегося идеолога партии полиция ждет и некоторых услуг: положим, неплохо бы узнать — конечно же, по возможности — адреса, имена, клички оставшихся на свободе народовольцев, местоположение тайников и подпольных типографий, пути распространения нелегальной литературы и прочее, прочее.
— Что с вами? — поднял брови Дурново, видя, как зеленеет лицо Тихомирова.
— Никогда! Слышите, никогда я не выдам бывших товарищей! — почти закричал Лев. — Я не назову ни одной явки, ни одной фамилии. Я могу призвать их сложить оружие и послужить России, но. Уж лучше опять в крепость или.
— Полноте, Лев Александрович! — добродушно улыбнулся директор Департамента полиции. — Я лишь хотел, чтобы скорее развеялось недоверие к вам. Лично я ценю вашу ис- кренность. Но есть в высших кругах и такие, кто настороженно относится к вашему.. Скажем, преображению. Даже сам Победоносцев.
— Боже мой! Это ужасно! — сжал виски Тихомиров. — Неужели люди русской истории, русского Царя не могут себе представить, что их дело, их идеи могут кого-нибудь искренне привлечь? Неужели они так уверены, что по совести можно сделаться только революционером?
— Да что вы такое говорите? Я бы вам.
— А знаете, Петр Николаевич, я ведь так и остался народовольцем, — словно бы не услышал его Лев.
— Вот как? — насторожился Дурново. — Но что за эпатаж?
— Да. Только я одно понял: истинная воля народа не в постоянном зуде социального переустройства, а в жизни согласно традиционным для России религиозности и нравственным идеалам Православия. Простите.
Он откланялся. Спешил в гостиницу: ждал от Кати телеграмму с датой выезда из Парижа в Россию. Но телеграммы не было. «А если что-то случилось? Все эти бывшие соратники. И Катюша с ними один на один. А вдруг Саша нездоров?..» — терялся Тихомиров в догадках.
Глава тридцать вторая
В один из ноябрьский дней 1918 года по Фуркасовскому переулку в сторону Большой Лубянки, семеня ногами в разношенных ботах, торопливо шла старушка, к слову сказать, очень знаменитая старушка — Вера Ивановна Засулич. До этого она долго спускалась по крутой лестнице с мансарды, где под самой крышей теперь занимала крохотную комнату; новая власть сперва уплотнила легендарную революционерку, поселив по соседству в ее просторной квартире каких-то ответственных комиссаров, а затем и вовсе переместила первую террористку к самому чердаку, повыше, совсем высоко.
И теперь из холодной каморки уважаемой Вере Ивановне было видно все. Перед ее слезящимися глазами наконец-то распахнулась справедливая жизнь, во имя которой она стреляла в генерала Трепова, бежала за границу, во имя которой погибали ее товарищи из «Народной Воли», взрывались бомбы и разбрасывались прокламации, а Плеханов создавал в Женеве марксистскую группу «Освобождение труда». И так упрямо создавал, что и основоположника не слышал, предостерегающего: не годится, мол, мое учение для России.
Но не просто спешила Засулич. Случайно проболтался один из соседей-комиссаров: ВЧК готовит массовые арес- ты, и уже приказ отдан — взять в Сергиевом Посаде известного Тихомирова, подлого приспешника царизма. «Шлепнут, поди, старого контрика. Сколько он и вам крови попортил, а?» — бросил на ходу комиссар, вполне довольный новым жильем.
Вот и двери ВЧК — тяжелые; хорошо, какой-то солдатик помог. На пути — часовой. «Я — Засулич! Меня ждет товарищ Дзержинский!» — соврала старушка. Парень на политзанятиях слышал фамилию революционерки. Пока он соображал, Вера Ивановна уже семенила по коридору. Еще часовой, и еще.
До чего же просто было попасть в кабинет к градоначальнику Трепову! Хоть каждый день с револьверами являйся. А тут.
Прошла старая террористка, пробилась. В приемной главного чекиста она сразу рванулась к нужной двери, но в этот момент барышня из буфета как раз вносила в кабинет поднос с чаем. Избежать столкновения не удалось: барышня вскрикнула, стаканы с сахарницей полетели на ковер. Давя ботами хрумкие сладкие куски, Засулич влетела к Феликсу Эдмундовичу.
— Вы не смеете! Не смеете! — бросила на стол потрепанный ридикюль.
— Кто вы? Кто пустил? — нахмурился было хозяин кабинета, но тут же заулыбался — кисловато, точно зубы болели: — Вера Ивановна? Верить ли? Живая легенда революции. Что случилось?
— Мне известно. Впрочем, неважно. Я знаю: вы хотите арестовать и расстрелять Тихомирова. Это недопустимо, потому что.
— Кто сказал? — поджал тонкие губы Дзержинский: налицо утечка сведений, и это плохо. — И почему сразу — расстрелять?
— Ясное дело, — двинула выпирающим подбородком старушка. — Я помню, еще не выжила из ума: там, где пролетариат применил массовый террор, там мы не встречаем предательства. Но он не предатель!
— Неужели?
— Да, он отошел, он отвернулся. Но он никого не выдал. Ни одного имени не назвал. Тихомиров поступил благородно.
— Интересно, интересно. — прищурился грозный председатель ВЧК.
— А посему я прошу, умоляю, я требую: не трогайте Льва!
Удивительно: не тронули. В Сергиев Посад так и не приехала
машина с чекистами. Тихомиров делал наброски эсхатологической повести «В последние дни» и ждал ареста. Но ареста не было. Конечно, он и подумать не мог, кто за него вступился.
Наконец-то отозвалась письмом Катюша: у Сашурки был круп — всякая хвороба цепляется к ослабленному ребенку! — но теперь, слава Богу, он вполне поправился, и они ждут теплых дней, чтобы пуститься в дорогу. Почему раньше не сообщила? Не хотела его волновать; ведь известно, как Лев сходит с ума, если сыну нездоровится.
А Петербург по полицейскому предписанию Тихомирову пора было оставлять. Даже Дурново ничего не мог пока сделать.
Уезжал Лев Александрович шумно. На вокзале вскрыли багаж и ужаснулись: из ящиков посыпались сплошь революционные издания, запрещенные в Империи. Ну, хоть бы одна нормальная книжка. Попытался объяснить: это, мол, для литературной работы. Но сметливые филеры, дошлые в розысках, перемигнулись и ловко скрутили бывшего Тигры- ча. Тычков под ребра он не помнил, но помнил враз охватившую его тюремную тоску, как оказалось, не совсем покинувшую измученное сердце.
Столичный градоначальник немедленно донес директору Департамента полиции. И получил нагоняй. «Отпустить! Извиниться. Багаж вернуть и впредь не задерживать!» — рявкнул Дурново.
Перед самым отъездом Петр Николаевич поддержал:
— Вашу брошюру «Почему я перестал быть революционером» прочел Государь. И весьма сочувственно отозвался. Это вселяет надежды. Пишите.
Но вот и Новороссийск, знакомый до мелочей дворик, мама в слезах и могила отца на старом кладбище, над которым все время посвистывает заблудившийся между небом и скалами ветер. И девочки, дочки его — Надя и Вера, бегущие к нему вдоль кромки пенистого моря; бегут, трогательно разбрасывая неловкие детские ноги, и вдруг замирают в нескольких шагах, смотрят нерешительно: а можно, дескать, обнять? а ты и вправду наш папа?
А вскоре и Сашурка кинулся взапуски со старшими сестрами: в мае они с Катей все же добрались до Новороссийска. Впереди — целое лето! И как все же славно быть снова не отверженцем, не отщепенцем, а русским. Ему всегда нужна была Россия, русская речь вокруг, русские люди, лица, горе, молитвы.
Одно беспокоило: сына надо было крестить, да Саша и сам хотел этого.
Ох, уж эта несуразная подпольная жизнь! Теперь она бьет и по ребенку. Ведь Лев венчался с Катей по подложному паспорту, где значилась вымышленная фамилия: Алещенко.
Побежал к полицмейстеру, затем к священнику. Пришлось отцу Михаилу, смущаясь, слать в столицу телеграмму — в Департамент полиции: «Прошу сообщить, Тихомиров и Алещенко одно ли лицо? Екатерина Сергеева жена ли его?» Участливый Дурново немедленно подтвердил: да, одно лицо; да, жена.
Но до чего дожил: даже имя свое потерял, и теперь с трудом возвращает его.
Записал в «памятной книжке»: «25 июня, воскресенье. В 6 часов вечера окрещен наш Сашура. Восприемники — Борис Дмитриевич Саблин, отставной поручик, инженер; восприемница (заочно) Ольга Алексеевна Новикова, а за нее присутствовала мама. Саша держал себя так умно, мило, так серьезно относился к св. таинству, что сердце радовалось. Слава Богу! Давно не было, и не помню такого счастливого дня, как сегодня.»