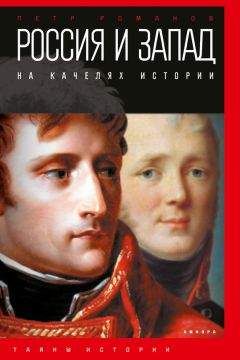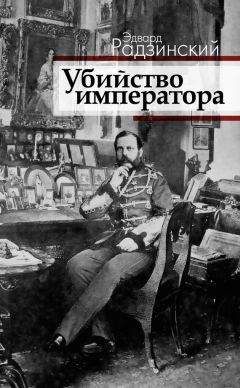Да и удивительно ли все это было, если, как заключило летом 1908-Г0 Адмиралтейство, «русский флот не в силах даже защитить столицу»?93 Если военный министр Редигер заявил на заседании Совета министров, что «вооруженные силы России не смогли бы даже отразить нападение противника, не говоря уже о том, чтобы его
Fuller W.C. Jr. Op.cit. P. 425. Ibid.
SazonovS. How the War Began. London, 1925. P. 33. Fuller W.C Jr. Op.cit. P. 421.
атаковать»?94 Короче говоря, не готова была Россия к новой войне катастрофически.
И сказано это было в том же самом 1909 году, когда Австро- Венгрия аннексировала Боснию, когда Шарапов с Аксаковым опубликовали Манифест, требовавший от лица «национально ориентированной» общественности немедленно обезвредить «врага и смутьяна», когда присоединилось к этому требованию большое число депутатов Думы во главе с её председателем Родзянко и, самое главное, когда вышли Вехи, ни словом об этой патриотической истерии не упомянувшие.
Попробуем теперь суммировать ситуацию.
«Патриотическая» общественность настойчиво требовала объявления войны Австро-Венгрии (а стало быть, и Германии, состоявшей с ней в военном союзе).
Война эта, по свидетельству всех цитированных выше государственных деятелей, чревата была неминуемой катастрофой, по сравнению с которой неудачи России в Крымской, Балканской и Японской войнах выглядели бы не более, чем рядовыми неприятностями.
На пути катастрофы стояло лишь неустойчивое правительство и мало что понимавший в большой политике самодержец, вдобавок еще благосклонный к черносотенной «общественности».
В условиях нарастающей патриотической истерии не было никакой гарантии, что в следующем конфликте царь устоит перед натиском симпатичной ему «общественности». В особенности если следующий конфликт коснется дорогой её сердцу Сербии. Несмотря даже на jo, что, как сообщал в Петербург посол в Белграде Евреинов, сербское правительство отреагировало на итоги русско-японской войны ошеломляющим отречением от России как от союзника95.
Перед лицом этой угрозы лидеры либерального общества, намеревавшиеся, по словам Струве, политически это общество «воспитывать», обрушились в Вехах не на тех, кто провоцировал чреватую катастрофой войну, а на «политический импрессионизм» интеллигенции.
Ibid. Р. Д22. ibid. Р. 413.
s
Не знаю, что подумает после этого об авторах Вех читатель. Я, честно говоря, не представляю себе, как умудрились все эти серьезные, умные, яркие люди совершенно, напрочь ничего не понять в том, что происходило в эти решающие годы в стране и в мире. И почему так невнимательно они читали своего учителя, все-таки «первого русского самостоятельного философа», что не заметили очевидного. Того, что петровская Россия стояла на грани самоуничтожения, что войне, надвигавшейся на страну, суждено было стать, по слову Соловьева, «последней».
Хотя бы просто потому, что даст она оружие в руки миллионов враждебных этой петровской России крестьян, которые в момент неминуемого поражения столь же неминуемо повернут его против нее. Да, конечно, и против царя, и против помещиков, и против их превосходительств тоже, но в первую очередь против дорогой либеральному седцу, пусть полуевропейской, но все же петровской России. И грозит ей поэтому возвращение в старую, чреватую «оце- пением духовной жизни» Московию..
Ведь из такого, единственно реального понимания ситуации вытекала совсем другая программа «политического воспитания» общества, нежели та, что была предложена в Вехах. В частности вытекала из него императивность направить все усилия культурной элиты России на борьбу с патриотической истерией и, следовательно, на предотвращение новой войны, которая, если верить Соловьеву, не могла не оказаться для России самоубийственной.
Вытекало из такого понимания ситуации также, что смерти подобно было для либеральной интеллигенции (и, стало быть, для России) уступить монополию на борьбу против надвигавшейся войны радикалам. Потому хотя бы, что еще за два года до выхода Вех состоялся Штутгартский конгресс II Интернационала, резолюция которого «обязывала социалистов, - по словам Ленина, - на всякую войну, начатую правительствами, отвечать усиленною проповедью гражданской войны и социальной революции»96. Вытекало из него, наконец, что не свертывать следовало, а многократно усилить начатую Соловьевым борьбу с реваншистским национализмом, насмерть
Ленин В.И. Собрание сочинений. 4-е изд. Т. 21. С. 15.
привязавшим внешнюю политику России к балканской пороховой бочке и Константинополю.
Все это были темы первостепенной, поистине жизненной важности. Само существование петровской России стояло здесь на кону - в буквальном смысле. А либеральная интеллигенция со своим укоренившимся провинциализмом была к ним безразлична. Погруженная сверх головы в перипетии дел домашних, она традиционно рассматривала международную политику как нечто чуждое, интересное разве что чиновникам да националистам и, в любом случае, третьестепенное.
Глава восьмая
На финишной прямой
На самом деле идеи-то у Струве и впрямь были.
Уже за год до выхода Вех он не только поделился ими с российской публикой (в Русской мысли, литературно-политическом журнале, который он редактировал), но и развернул активнейшую кампанию, в которой, естественно, участвовали и другие веховцы. Только идеи эти были свойства прямо противоположного тем, о которых ведем мы речь. Коротко говоря, авторы Русской мысли во главе со своим редактором и вместе с черносотенной «общественностью» дружно и целенаправленно подталкивали Россию к «последней» войне. Одним словом, работали, не щадя сил, на радикалов, на тех, кому только и могла быть эта война выгодна. Об этой удивительной метаморфозе веховцев и вообще «национально ориентированной» интеллигенции, оказавшейся в полной зависимости от геополитики выродившегося самодержавия, мы в следующей главе и поговорим.
Вот над этим легкомысленным внешнеполитическим нигилизмом интеллигенции и поработать бы, казалось, политическим воспитателям. Странным образом, однако, в Вехах, как знает читатель, нет об этих сюжетах ни слова. Упомянув политическое воспитание, Струве тут же и переходит к разоблачению «безрелигиозного отщепенства» интеллигенции. И сводит всё в конечном счете к вполне тривиальному призыву: «нужны идеи, творческая борьба идей».
Пока что скажем лишь, что Струве и Кистяковский были ведь еще серьёзнее других веховцев. Что уж говорить о Гершензоне, вся критика которого свелась к совершенно славянофильскому тезису: либералы, мол, не понимают, что «народная душа качественно другая»? И тем более о Булгакове, убежденном, что «соприкосновение интеллигенции и народа есть прежде всего столкновение двух вер, двух религий» и что «разрушая народную душу» либералы «сдвигают ее с незыблемых вековых оснований»?
Подумайте, насколько реалистичней был тот же черносотенец Меньшиков, уверенный, как мы помним, что «нынешний крестьянин почти равнодушен к Богу». Да и в любом случае, разве помешали крестьянам их «качественно другая душа» и «незыблемые основания» пойти за атеистами-большевиками, когда позвали они их делить помещичьи земли, грабить усадьбы и разрушать храмы? Поневоле вспоминаются пророческие слова Герцена, сказанные, как мы помним, еще за полвека до этого дня расплаты, о том, что «в передних и в девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи страшных злодейств, воспоминание о них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую и беспощадную месть, которую остановить вряд возможно ли будет».
Кто был виноват в этих страшных мартирологах? Крепостное право, законсервировавшее в крестьянстве московитскую менталь- ность? Самодержавие, до последнего стоявшее, как мы видели, за крепостное право? Постниколаевские правительства, ограбившие крестьян, умножая тем самым их вековую ненависть? Организаторы патриотической истерии, приблизившие день расплаты, одев миллионы крестьян в солдатские шинели и дав им в руки оружие? Радикалы, мечтавшие о гражданской войне?
Много было в России виноватых. Но уж меньше всего относилась к ним либеральная интеллигенция. Разве что винить её можно было за то, что ровно ничего она в этом сложнейшем клубке застаревших страстей и воинственной риторики не понимала. Но вот почему-то именно на неё ополчились в этот острый, решающий для самого существования петровской России момент авторы Вех.
Туг и открывается нам самая глубокая тайна веховских критиков. Эти несостоявшиеся воспитатели русского общества оказались на поверку до такой степени «политически невоспитанными», что вообще не предвидели и даже не предчувствовали надвигавшегося несчастья. Для них революция пятого года была концом, а не началом бури, которой предстояло снести не только псевдоконституционное, по словам Макса Вебера, «думское самодержавие», но и монархию, а за нею и республику. Лейтмотивом проходит через Вехи идея, что все утрясается, наступает штиль - и самодержавие уже не то, и интеллигенция не та, и вообще пришло время заняться «самовоспитанием».