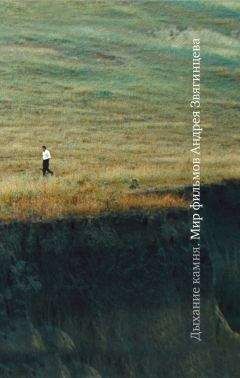Немало писали о странной, нетривиальной завязке сюжета. Мальчишки прибегают домой, обгоняя друг друга: каждый старается первым наябедничать. Мать стоит и нервно курит, в ее глазах и радость, и испуг: “Тихо оба! Отец спит”. Как будто он только что вернулся с работы после ночной смены. И сразу начинаются какие-то недоговоренности, и одновременно включается ненавязчивая, выверенная система “подсказок”. Ребята (равно как и зрители) невольно спрашивают: “Откуда он взялся?” – “Приехал”, – односложно отвечает мать. Андрей с Иваном бегут к комнате, где должен быть отец, открывают дверь (им не терпится проверить) – “подсказка” первая: отец действительно спит. Но как! Один в один повторяя позу мертвого Иисуса на известной картине Мантеньи. Постель тоже весьма необычная: темно-синий шелк в тон морской глади – первому и заключительному кадру фильма – волнами обвивает тело спящего. Крепко спящего.
Утром состоится первая встреча подростков с отцом. Накрыт стол, мать почему-то задергивает занавески и днем включает свет, бабушка как-то напряженно и скорбно молчит. Ярко догорают угли в печи. Все заняли свои места и молча ждут. Входит отец. Не говоря ни слова, берет со стола бутылку красного вина и наливает всем – и взрослым, и детям. Женщины безропотно соглашаются с его требованием, лишь разбавляют вино в стаканах мальчиков. “Ну, выпьем!” – говорит отец. “Понравилось?” – спрашивает Ивана. “Нет”, – отвечает тот хмуро. И сразу откликается Андрей, хотя его и не спрашивали: “А мне понравилось, папа”. В этом коротком разговоре, как в зародыше, – все последующее противостояние. Нет, не между отцом и младшим сыном. Войну ведет только последний. Кстати, свести данное противостояние только к психологическому конфликту не позволяет уже сама атмосфера первой встречи – атмосфера какой-то подспудной скорби, даже траурности. Кроме того, параллельно возникает столько странных и одновременно говорящих деталей – разливаемое всем вино, курица, которую отец так неэстетично разламывает на части руками. И почти дикий вопрос: “Понравилось тебе, Иван?” Собственно, мы с вами присутствуем на последней вечере, где совершается обряд евхаристии: “Пейте Мою кровь, едите Мою плоть”. Иуда тоже здесь. Правда, совсем маленький и, казалось бы, беззащитный. Впрочем, может, и не Иуда, а Петр или Фома, Иоанн. Какая разница? Все Его предали. Все, “то есть род человеческий”.
Но вернемся к отмеченному выше противостоянию. Его истоки в двух единственно возможных человеческих реакциях на сверхчувственное, иррациональное, проще говоря, на то, что “не укладывается” в нашей голове. Вот пришел Некто, говорит, Отец. Что дальше? Как теперь жить? Либо сразу, не задумываясь, поверить, довериться. Либо искать вещественные доказательства, другими словами, включить свой разум и пытаться сопоставлять, выстраивать причинно-следственные цепочки, а главное – делать на основе этого выводы. Андрей откликнется сразу – радостной верой и обожанием. Ему даже в голову не приходит проверять, ведь “мама сказала, что отец”, а главное – старший сын всегда ждал, ждал возвращения. Ему радостно и хорошо произносить – “папа”. Он во всем старается слушаться, “потому что отец взрослый”. Другое дело – Иван. Он не может вот так просто – раз, и поверить, полюбить. Он хочет понять. Первое, что задевает его и не дает ему покоя, вопрос: “А откуда он взялся?” В самом начале еще нет недоверия, тем более озлобленности. Просто некое интеллектуальное “раздражение”: “Откуда?” Но в том-то и проблема, что наш разум не может остановиться. На вопрос не только должен быть найден конкретный ответ, сам ответ, скорее всего, тотчас подвергнется анализу, то есть мгновенно начинает работать известная формула: “А правда ли?” И все – не остановиться. Тот, кто не справился с соблазном недоверия, сам, как известно, становится источником соблазна, таким змеем-искусителем. Неверие не может дать внутреннего утешения. Разрушая себя изнутри, такой человек начинает разрушать все вокруг. И нашептывать, нашептывать, совсем как Иван своему брату: “А откуда ты знаешь, что он отец? А может, он – убийца?” И ножик украдет “на всякий случай”: “Ударит – убью”. И подкалывать будет все время, передразнивая Андрея: “Да, папа. Хорошо, папа”. И смущать, истерически настаивать: “Мы ему совсем не нужны!” Любопытно, что младший начинает подозревать отца во всех грехах задолго до тех конкретных его поступков, которые могли бы послужить поводом для сомнений. Именно он в конечном итоге последовательно провоцирует отца на как бы неадекватное раздражение. Нарисовав злодея в воображении, Иван добивается-таки своего в финальном выяснении отношений, когда уже не он, а Андрей, но его словами остервенело кричит отцу: “Сволочь, гад! Ненавижу! Ну, убей меня теперь, убей!”
Что же случилось? Почему Иван так и не смог, пока был жив отец, преодолеть недоверие, подозрительность? Ведь все складывалось совсем неоднозначно. Он не только мрачно куксился и злился, но и радовался, улыбался, когда они первый раз остановились у озера и допоздна ловили рыбу. И когда плыли к острову на лодке, пока не заглох мотор и отец велел грести вдвоем с Андреем. Почему ему так мучительно было произносить “папа”, почему он сам не мог этого сделать, только под давлением отца? И зачем, наконец, почти чужой, вернувшийся через двенадцать лет человек так на этом настаивал: “Называй меня папа, как и положено сыну называть отца”? Все, как мы помним, начиналось с вопроса: “Откуда он взялся?” Следующей возникла, нет, не радость – обида: почему он заставил ждать так долго, а где он был раньше? С этой обиды и начинается встреча с отцом, еще дома, за столом. Иван чувствует себя несправедливо обиженным, следовательно – “право имеющим” предъявлять претензии, а затем попросту капризничать, закатывать истерики: я хочу есть – я не хочу есть; я хочу ловить рыбу, а не ехать куда-то; я хочу поесть прямо сейчас, а не спустя полчаса, как осмотрим остров; а почему я должен мыть посуду; а где взять червей (в смысле – сам принеси); будем ловить с лодки, а зачем его спрашивать; ну, давай только сплаваем туда и назад; нет, разве можно уплывать, ведь я здесь такую рыбину видел; что скажем? – рыбу поймали! Заметим, что Иван капризничает и злится не только с отцом, но и постоянно гоняет Андрея: принеси то, другое, ну, я тебе попомню. Он, младший, фактически заправляет старшим, пользуясь его незлобивостью, мягкостью. Последняя отнюдь не является мягкотелостью, как мы позднее убедимся. Сам Иван, напротив, весьма злопамятен. “Ну и злопамятный ты, мелкий!” – говорит ему Андрей. Собственно, с отцом и Андреем Иван постоянно разыгрывает одну и ту же ситуацию, которую мы наблюдали в самом начале фильма: он выясняет, кто здесь главный. И ему, конечно, невдомек, что отец – не сверстники, что есть абсолютные запреты и требования. Например, надо слушаться отца. Почему? Потому что – отец, потому что если все относительно и подвергается постоянной рефлексии, то рано или поздно мир полетит в тартарары, что и случилось. Впрочем, нельзя также постоянно чувствовать себя обиженным, то есть униженным; надо прощать и другим, и себе. Ну а если очень обидно? Все равно нельзя. Почему? Просто нельзя. Не по-божески. И наверняка чревато катастрофой. Вот почему отец так настаивает на произнесении такого простого и как бы не обязательного слова – “папа”, потому что оно сразу задает определенную и столь необходимую иерархию взаимоотношений: старший – младший, мудрый – не обладающий достаточным жизненным опытом и становящийся старшим в свой срок. И вот почему Иван никак не может выдавить из себя это спасительное для него слово. Он продолжает соревноваться.
Все дело, как всегда, в нежелании преодолеть банальную человеческую гордыню, которая и определяет преимущественно наше социальное поведение. Мы зачастую просто боимся продешевить, иными словами, оказаться в смешном положении. Но самое главное, мы никак не можем признать несовершенство и ограниченность собственной человеческой природы, то есть свой грех, свою вину, и увидеть, как говорил известный философ Яков Друскин, “свое невидение”. С одной стороны, порожденное гордыней неверие требует конкретных вещественных доказательств существования невещественного, ирреального, духовного. Вот докажи мне сначала, что ты – Отец, а я уж потом посмотрю, любить тебя или нет. С другой стороны, несмотря на “знание добра и зла”, нам не дано предугадать ту конкретную форму, которую примет это абсолютное зло и еще более – добро. В нашей голове постоянно присутствует, накапливаясь, целый арсенал общежитейских шаблонов. И вот это усредненное представление о том или ином мы пытаемся приложить к нашему духовному опыту, а он всегда уникален и ни с кем до конца не может быть разделен. Замечу, что именно Дух, духовный опыт каждого неповторим. Сам же человек, в совокупности его физиологических, психологических, социальных характеристик, может оставаться весьма ординарным – “как все”. Дело в том, что нет готовых истин, есть расхожие. Нет и никакой их множественности (бывает только плюрализм мнений, то есть обрывочных и случайных представлений о том или другом). Истина – всегда одна, только открывается Она каждому по-разному и настолько, насколько конкретный человек оказывается способным Ее вместить.