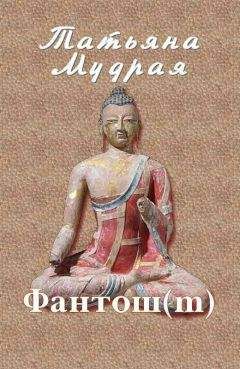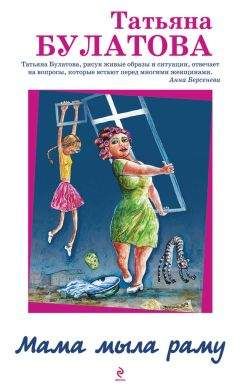Сказать Роберту или сам до всего дойдёт?
— Я трус и преступник, — говорил в это время Роберт. — Я даже, наверное, хуже, потому что считаю, что всё делал правильно. И когда оставил Габри, детей и аэробус, и когда позволил обезумевшей Танюшке войти в корабль.
— Трусов и преступников не бывает, — ответил Горбовский. — Я скорее поверю в человека, который способен воскреснуть, чем в человека, способного совершить преступление.
Но оба они не знали всего.
Кахина положила правую руку на сокровенный амулет, чтобы собраться с силами. Хорошо, что женское письмо тифинаг знаем из людей только я и мама, подумала девочка. Ну, ещё лингвисты, знатоки всего мёртвого. Мама сочинила стихи не на языке имохаг и записала древними знаками странное:
Я разменяю солнечный динар
На тысячу серебряных дирхемов
И буду петь, как рыбка в полнолунье,
Роняя кверху цепи жемчугов.
Когда суровый кипарис весна
Гирляндой из багряных роз овеет,
Я замолчу, как соловей на круче
Ночною безоглядною порой.
Как летний зной на острие клинка,
Звезда на месяце сияет несравненно:
Так я в себе самом не скрою муку
Из хляби водной нерождённых строк.
Закалены в горниле чистом льда,
На волю вырвутся отточенные бейты,
Трубой победной огласив осенний путь,
Как жеребцы, что пущены вдогон.
Когда ж погаснет слов моих накал
И перлами немого красноречья
Нанижется на нитку золотую,
Тогда настанет мой последний год.
Моё имя, как и стихи, от мамы. Кахина, древняя царица воительница племени имохаг.
Спасать детей — верное и простое решение. Они — земное бессмертие для людей. Спасать женщин — даже не решение, а долг.
На Радуге женщин ради них самих не спасали. Сама Кахина поменялась с лучшей из них лишь ради того, кто скрыт внутри. Ради батин.
Говорят, «синие рыцари» имохаг именно потому не смели открыть лиц ни перед кем, что опозорились, не сумев защитить своих повелительниц.
Это были напрасные мысли, которые ничего не могли изменить. Но от них лицо Кахины делалось совсем взрослым. Такая маскировка полезна.
Девушка, уже нисколько не скрываясь, двигалась по главной улице Столицы, вдоль которой художники расставили последние из своих картин. Отчего-то народу здесь было поменьше. Большинство собралось на морском берегу и не отводило глаз от двойной чернобархатной стены, поверху коронованной сиянием, которая сжималась вокруг маленького бледного солнца.
Здесь, в самом конце шеренги, находилось самое любимое, и Кахина хотела именно здесь встретить то, что неизбежно.
Два полотна рядом, написанные какими-то необыкновенными красками. Добытыми путём возгонки из невзрачных диких цветов Радуги, путём растирания в ступке — из глин и камней Радуги. Растворённые водой из глубин планеты.
Неправда, что до землян здесь не было ничего. Здесь была пустыня.
Такая, как на первом полотне. Равнина цвета ржавчины, на переднем плане — старческое лицо, мудрое и юморное. На заднем плане какие-то белесоватые силуэты. Отчего-то внизу художник написал: «Старик и море». По Хемингуэю?
Пустыня всегда кишит разнообразной жизнью. Почти всегда это дно первозданного океана.
Оттого на втором полотне, названном «Объяли меня дюны до души моей», океан простирался во всю ширь: лишь узкая кромка серой гальки отделяла его от внешнего наблюдателя. Внутренний наблюдатель был тоже: чуть сгорбившийся человек, по видимости пожилой, что сидел на гальке спиной к зрителям, и смотрел на воду. На первый взгляд море было неподвижным, как зеркало, и безжизненным, но постепенно вы начинали понимать, что оно по сути и было самой жизнью. Некими прозрачными существами разных видов и форм, которые лежат, плотно прижавшись друг к другу, будто яйца в кладке. А стоит вглядеться — переливаются из формы в форму и из одного цвета в другой.
— Живая радуга, — произнесли за спиной Кахины.
Она медленно обернулась и увидела Камилла. Его нелепый шлем, его вечно постное и угрюмое лицо и круглые немигающие глаза.
— Что ты тут делаешь, девочка?
— То же, что и все прочие, — ответила она с досадой. — Может быть, забудем напоследок это обращение?
Не «дядя Камилл». Даже не Камилл.
Но он все равно не отцепился.
— Я знаю, какой обмен ты произвела, — сказал мёртвым голосом.
— Наверное, это очень скучно — всё знать?
— Я так думаю, есть вещи и поинтереснее, — ответил Камилл. — Уходить, к примеру. Сегодня я уходил и приходил трижды. Каждый раз было очень больно.
— Я не боюсь боли. Главное — никто из взрослых не сможет помешать мне сделать то, что хочу.
Но она боялась. Волна безумно жаркого ветра, которую гонит перед собой Волна. Многотонная тяжесть воздуха, которая срывает мясо с костей и плющит сами кости. Похоже на то, как жгут ведьм, или ещё круче?
— Не боюсь.
Но пальцы сами собой нащупали футляр с муаллакой, подвешенной на тонком шнурке.
— Девочка, ты что — хочешь выпилить себя из реала?
Откуда-то Камилл знал жаргон столетней давности.
— Из этого, — качнула головой сначала назад, потом вперёд. — Вон в тот.
На самом деле Кахине всего-навсего хотелось до последнего любоваться песком и ликом старца. Заворожить себя так, чтоб не почувствовать ни боли, ни страха. Но обратный кивок указал на вторую картину. На море.
На истинное море.
От неожиданности девушка вцепилась в руку, что как раз легла ей на плечо. И почувствовала скрип гальки под ногами, плеск жидкого стекла. Увидела переплетение тысяч голосов, визгливых и басовитых.
Двойная стена рывком ушла за спину. Широкая солнечная дорожка цвета луны пролегла по маслянистым волнам. Какой-то некрупный зверь доплеснул до мелководья и не очень уверенно встал на махровые плавники. Потоптался на мягких лапах, разбрасывая во все стороны самоцветы. Вдалеке выныривали и взлетали к зениту живые, атласисто сверкающие дуги, скрещиваясь саблями.
— Целакант, — сказал Камилл своим скрипучим голосом. — Дельфины.
— Камилл, ты не можешь обойтись без этикеток?
— Да?
— Без ярлыков. Без классификаций. Без того, чтобы сразу начать резать на удобоваримые ломтики.
Кахина запахнула воротник ярко-изумрудного плаща — с моря дул ветер, упорный и тёплый, отворачивал полы, показывая золотистую изнанку.
— Вот ещё одна попытка классификации. Волна уже дошла до нас обоих, сомкнула ладони, и это предсмертный бред.
Отчего-то девушке стало смешно.
— Ты думаешь — это смерть? А если перед нами — огромная купель. Вселенская родилка. Камилл, ты говорил, что проходил через грань и знаешь. Те, прошлые разы, было так же?
— Нет.
Гулкий рёв ударил в перепонки, как в барабан. Огромная туша, белоснежная, как новорожденный айсберг, грузно всплыла из воды и направилась к берегу.
— Айсберги не бывают такими чистыми, — сказал Камилл.
— А киты бывают такие огромные? — рассмеялась Кахина. — И большеглазые?
— Какие синие глаза
У девочки моей,
Они восходят, как гроза,
Из облачных зыбей.
Светил дневных расчислен ход,
Ночных — неисчислим,
Но та, кто молнию метнёт,
Пусть спутника средь них найдёт
И породнится с ним.
— Сумасшедшие стихи, — сказал Камилл.
— Ну да. Как та рыба, что сидела на дереве, — на полном серьёзе ответила девушка.
Туша раскрыла пасть, похожую на пещеру, выстланную алым бархатом, и до крайности мелодично запела, трепеща языком, слишком малым для такой глотки.
Внезапно откуда-то снизу беззвучно выхлестнули огромные щупальца с присосками — каждое словно тарелка, — обвились вокруг туловища кашалота и, клубясь, повлекли в глубину.
— Камилл, это ж я это подманила, — ахнула Кахина. — Я иду.
Она мигом сбросила свой плащ и осталась нагишом.
— Мы не знаем законов, по которым устроен этот мир, не понимаем, как на него можно воздействовать, — сказал Камилл ей в спину.
— От… женщин не требуют муруввы. В отличие от мужчин, — донеслось до него из-под слоя воды подобие мысли.
— От них требуют разума, — ответил он.
— И полного отсутствия героики, — ответили уже издалека.
А потом связь прервалась. Камилл подумал — и сел где стоял.
— Как это всё несерьёзно, — сказал в пустоту, наполненную разноцветными бликами. Подобия высоких испанских гребней поднимались оттуда и опадали кленовым листом, из бездны воздвигались ажурные решётки и хрупкие пизанские башни, распрямлялись и погружались в водоворот. Невероятной красоты водные конкреции возникали и тут же растворялись в солёной прозрачности.