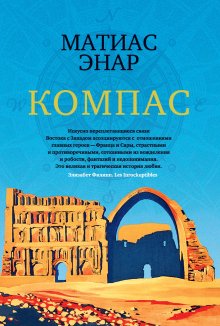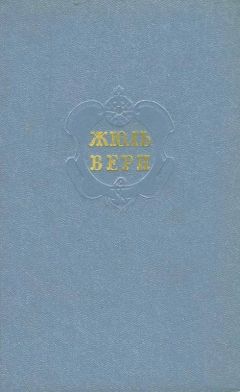Mathias Enard
BOUSSOLE
© Actes Sud, 2015
Illustrations:
© Service historique de la Défense, DRT Caen, 40 R 4334
Édition du journal “El Jihad”, camp de Wünsdorf / Zossen.
Extrait de l’album photo de Otto Stiehl. Photo © bpk /
Museum Europäischer Kulturen, SMB
Les autres illustrations sont issues des archives privées de l’auteur.
Серия «Большой роман»
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
© И. Я. Волевич, перевод, примечания, 2018
© Е. В. Морозова, перевод, примечания, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство ИНОСТРАНКА®
* * *
Die Augen schlies’ ich wieder,
Noch schlagt das Herz so warm.
Wann grunt ihr Blatter am Fenster?
Wann halt’ ich mein Liebchen im Arm?
Глаза закрыл я снова,
Но жарко бьется кровь.
Цвести ли цветам, что на стеклах?
Обнять ли мне милую вновь?
Вильгельм Мюллер и Франц Шуберт.
Зимний путь[1]
Нас двое, курильщиков опиума, и каждый окутан своим облачком дыма – он застит глаза, мешая видеть то, что вокруг; одинокие, никогда не понимающие друг друга, мы курим, наши помертвелые лица истаивают в зеркале, и оно превращает их в застывший образ, коему время дарит иллюзию движения, в ледяной кристалл, скользящий по комочку инея, кристалл, чья замысловатая структура никому не ведома; я и есть эта капелька застывающей воды на оконном стекле моей гостиной, жидкая бусинка, что катится вниз, знать не зная о паре, который ее породил, об атомах, из которых она пока еще состоит, но которые скоро, очень скоро послужат другим молекулам, другим телам, а может быть, облакам, грузно нависающим нынче вечером над Веной; и кто знает, по чьему затылку скользнет вниз эта водяная малость, чью кожу, какой тротуар увлажнит она, в какую реку впадет; да и этот неразличимый лик за стеклом – только одна из миллионов конфигураций, возможных в иллюзии, – будет моим лишь на краткое мгновение… Гляди-ка, вон господин Грубер выгуливает свою собаку, презрев морось; на нем зеленая шляпа и неизменный плащ, он спасается от грязи, брызжущей из-под автомобильных колес, выделывая смешные курбеты на тротуаре, а пес, вообразив, что хозяин с ним играет, прыгает на него и получает здоровенную затрещину в тот момент, когда его измазанная лапа касается плаща господина Грубера, который в конце концов все же вынужден подойти к обочине, чтобы пересечь шоссе; уличные фонари вытягивают его силуэт – черную лужицу посреди моря теней от больших деревьев, рассекаемого лучами фар с Порцеллангассе, – но герр Грубер явно не решается нырнуть в темную бездну Альзергрунда[2], как я не решаюсь отвлечься от созерцания капелек за окном, уличного градусника и трамваев, с ритмичным позвякиванием идущих в конец улицы, к станции метро «Шоттентор».
Существование – это болезненный отблеск, грезы опиофага, поэма Руми[3] в исполнении Шахрама Назери[4]; ostinato[5] зарба[6] вызывает легкую дрожь стекла под моими пальцами – так вибрирует кожа барабана; а мне следовало бы продолжить чтение, вместо того чтобы смотреть, как господин Грубер исчезает под дождем, или вслушиваться в затейливые мелизмы иранского певца, чей мощный голос с его дивным тембром мог бы пристыдить многих наших теноров. Надо бы остановить диск, мешающий мне сосредоточиться; тщетно я уже в десятый раз перечитываю эту ксерокопию, не понимая ее загадочного смысла, – двадцать страниц, двадцать ужасных, леденящих душу страниц, они прибыли ко мне именно сегодня, в тот самый день, когда соболезнующий врач, может быть, уже назвал по имени мой недуг, объявил мое тело официально больным, почти довольный тем, что выдал мне диагноз – смертельный поцелуй, – основанный на симптомах, диагноз, который он затем подтвердит, назначив лечение, с намерением следить за эволюцией – именно так он и выразился, – за эволюцией болезни, вот до чего мы дожили; остается только смотреть, как эта капелька эволюционирует в сторону исчезновения, перед тем как снова возродиться в Вечности.
В мире нет ничего случайного, все взаимосвязано, сказала бы Сара, – вот потому-то я и получил по почте, именно сегодня, эту статью, старомодную ксерокопию, бумажные листы, скрепленные скобкой, вместо текста в PDF с пожеланием «благополучной доставки», приложенного к мейлу, который мог бы сообщить о ней какие-то новости, объяснить, где она находится, и что такое этот Саравак, откуда она отправила пакет, – если верить моему атласу, это некое государство в Малайзии, расположенное к северо-западу от острова Борнео, в двух шагах от Брунея и его сказочно богатого султана, а также в двух шагах от гамеланов[7] Дебюсси и Бриттена, как мне кажется, – однако содержание статьи совсем иное: никакой музыки, за исключением, может быть, длинного похоронного песнопения; двадцать плотных листов, двадцать страниц текста, опубликованного в сентябрьском номере «Representation», прекрасного журнала, выходящего в Калифорнийском университете, для которого она и прежде часто писала. На первой странице статьи – посвящение, без всяких комментариев: «Для тебя, мой дорогой Франц, крепко целую, Сара»; пакет был отправлен 17 ноября, иными словами, две недели тому назад – почта по-прежнему идет из Малайзии в Австрию целых четырнадцать дней, – а может, Сара просто экономила на марках, и вообще, могла бы приложить к статье хотя бы открытку; не понимаю, что это означает, я обследовал буквально все, что осталось от нее в моей квартире, – ее статьи, две книги, несколько фотографий и даже второй экземпляр ее докторской диссертации – два толстенных тома в красных виниловых переплетах под кожу, весом три кило каждый.
«В жизни есть раны, которые, подобно проказе, разъедают душу в одиночестве», – пишет иранец Садег Хедаят[8] в начале своего романа «Слепая сова»: автор, худенький человечек в круглых очках, знал это лучше, чем кто-либо другой. Одна из таких душевных ран и вынудила его открыть газ в своей квартире на улице Шампьонне в Париже, однажды вечером, когда одиночество стало невыносимым, апрельским вечером, очень далеко от Ирана, очень далеко от всего на свете, а рядом с ним были только несколько рубаи Омара Хайяма, коньяк в бутылке темного стекла да шарик опиума, а может, и не было ничего этого, совсем ничего, кроме текстов, которые он еще хранил в себе и унес вместе с собой в великую пустоту газа.
Неизвестно, оставил ли он предсмертное письмо или еще какой-нибудь знак, кроме романа «Слепая сова», давно уже законченного; через два года после его смерти этот роман вызовет горячее восхищение французских интеллектуалов, которые до этого никогда не читали иранской литературы: издатель Жозе Корти выпустит в свет «Слепую сову» почти сразу же после «Побережья Сирта»; Жюльен Грак[9], который удостоится в 1951 году громкого успеха как раз тогда, когда газ на улице Шампьонне делал свое черное дело, скажет, что «Побережье» – роман «всех благородных пороков», тех самых, которым удалось прикончить Хедаята, одурманив его вином и газом. Зато Андре Бретон[10] отнесется благожелательно к обоим писателям и их книгам – увы, слишком поздно, чтобы спасти Хедаята от душевных ран, если его вообще можно было спасти, предположив, что зло не было (а оно наверняка было) неизлечимым.
Худенький человечек в круглых очках с толстыми линзами был в изгнании как здесь, так и в Иране; он держался спокойно и скромно, говорил тихо. Ирония и злая печаль сделали его изгоем общества, чему способствовали также его симпатия к сумасшедшим и пьяницам и восхищение перед некоторыми поэтами и их творчеством; возможно, его порицали еще и за то, что он баловался опиумом и кокаином, насмехаясь при этом над теми, кто был к ним пристрастен; а возможно, и за то, что пил в одиночестве или шокировал окружающих заявлениями, что больше ничего не ждет от Бога даже в те вечера, когда гнетущее одиночество подсказывает ему повернуть газовый кран; не исключено, что он чувствовал себя ничтожеством или, напротив, ясно понимал все значение своего творчества, но не верил в успех, – словом, можно предположить любую причину, но все они раздражали окружающих.
Как бы то ни было, но на улице Шампьонне нет никакой мемориальной доски, напоминающей о здешнем пребывании или об уходе Хедаята; да и в Иране его не удостоили ни одним памятником, невзирая на тяжкую неоспоримость истории, сделавшей этого писателя неустранимым, и столь же тяжкую неоспоримость его гибели, все еще довлеющей над его соотечественниками. Сегодня творчество Хедаята живет в Тегеране так же, как он умер, – в нищете и безвестности, на прилавках блошиных рынков или в кастрированных переизданиях, откуда удалены все намеки, грозящие привлечь внимание читателя к наркотикам или самоубийству, дабы уберечь иранскую молодежь, которая и без того заражена этими болезнями – отчаянием, тягой к самоубийству, наркотической зависимостью, – а потому жадно набрасывается на книги Хедаята, если их удается разыскать; вот таким – прославленным и плохо понятым – этот писатель воссоединяется со своими великими собратьями, что окружают его на Пер-Лашез, в двух шагах от Пруста, где он покоится, оставаясь столь же скромным и замкнутым в вечности, каким был при жизни, без пышных венков, почти без посетителей, с того апрельского дня 1951 года, когда он выбрал смерть от газа и улицу Шампьонне, чтобы положить конец всему на этом свете и уйти на тот, разъеденным душевной проказой, неизлечимой и всепобеждающей. «Никто не принимает решения покончить с собой; самоубийство просто живет в некоторых людях, является частью их натуры». Хедаят пишет эти строки в конце 1920-х годов. Он пишет их еще до того, как прочесть и перевести Кафку[11], перед тем, как представить читателям Хайяма. Его творчество открывается с конца. В первом же опубликованном им в 1930 году сборнике – «Зенде бе Гур» («Заживо погребенный») – речь идет о самоубийстве, о саморазрушении; мы допускаем, что там автор точно описывает мысли человека, который убьет себя газом двадцать лет спустя, мирно заснув навеки после того, как уничтожил все свои документы и записи, в крошечной кухоньке, напоенной нестерпимым ароматом пришедшей весны. Он сжег все свои рукописи, быть может, потому, что оказался мужественнее Кафки, или потому, что у него рядом не случилось Макса Брода[12], или потому, что никому не доверял, или просто решил, что настала пора уйти. И если Кафка[13] ушел, захлебываясь кашлем и до последней минуты внося правку в тексты, которые хотел сжечь, то Хедаят умирал в медленной агонии тяжелого сна, ибо его смерть уже была написана двадцатью годами раньше, а жизнь отмечена ранами и язвами той самой проказы, что точила его в одиночестве, проказы, которая, как мы предполагаем, связана с Ираном и Востоком, с Европой и Западом, так же как Кафка, живший в Праге, был одновременно немцем, евреем и чехом, не являясь, по сути дела, никем из них, будучи обреченным больше, чем все они, или же более свободным, чем все они. Хедаят страдал одной из тех душевных болезней, что лишают человека равновесия, необходимого в нашем мире, и эта трещина раскрывалась все шире и шире, пока не превратилась в пропасть; ее даже нельзя назвать болезнью, она – как опиум, как алкоголь, как все, что раздваивает человека, – уже не болезнь, а решение, твердая воля расколоть надвое свою личность, окончательно, до самой смерти.