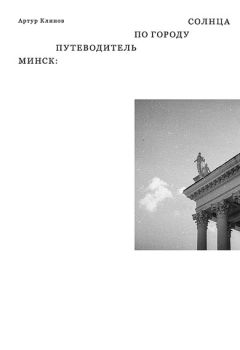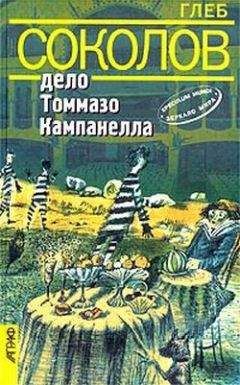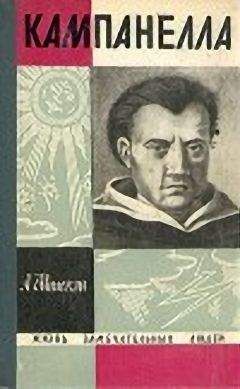Двор у площади Ворот
Когда-то Город Солнца наполняли скульптуры богов страны Счастья. Встретить их можно было повсюду – на фасадах и в интерьерах дворцов, на площадях, в парках и скверах. Свергнув прежних – христианских, мусульманских, иудейских богов, – Утопия создала собственный двухярусный Олимп из демиургов и бого-героев. венчал пирамиду Великий коммунист. Потом шли Великий рабочий, Великая колхозница, Великий строитель, Великий солдат, Великий ученый, Великий космонавт, Великий сталевар, Великий шахтер, Великий хлопковод, Великий тракторист, Великий комсомолец и дальше к подножию. Это были демиурги-творцы страны Счастья. В Городе Солнца существовал еще местный культ Великого партизана, героя войны с гигантами Третьего рейха. Обычно скульптуры демиургов ставили на фасадах дворцов, а их плоские изображения в мозаике, сграффито, росписи и чеканке помещали на стенах. Во втором, высшем, ярусе обитали персонифицированные бого-герои. Возглавляли иерархию великий Ленин и великий Сталин. Правда, в моем детстве великого Сталина уже низвергли, но в стране все равно оставались люди, которые продолжали ему поклоняться. Скульптуры великого Ленина устанавливали на площадях. В интерьерах помещали бюсты и скульптуры поменьше. В кабинетах аппаратов Метафизика, Мощи, Мудрости и Любви висело множество его портретов. Правда, люди из Госбезопасности предпочитали портрет Дзержинского, худощавого человека с острой бородкой и заостренными ушами. В палате персонифицированных богов имелось несколько немцев – великий Карл Маркс и великий Фридрих Энгельс, скульптуры которых, правда, не в таких количествах, также устанавливали на площадях. Кроме того присутствовали на Олимпе Карл Либкнехт, Роза Люксембург и Клара Цеткин. Но им памятники ставили редко, скорей, давали их имена улицам. Называли улицы в честь всех богов – демиургов и бого-героев. Особенно много посвящалось их Ленину. Когда уже не оставалось не названных его именем проспектов и площадей, вспоминали другие псевдонимы или настоящую фамилию Ленина и называли ими. Когда и их не хватало, давали его имя дворцам, заводам, библиотекам и университетам. Были в стране Счастья и маленькие демиурги – великие пионеры и великие октябрята, скульптуры которых помещали в скверах и парках. Но, как и венерам с веслом, им повезло меньше всех. Слишком близко стояли они к людям, поэтому им первым отбивали носы, обламывали уши и руки. Ведь каждому варвару приятно оторвать ухо богу, если он знает, что за это не будет наказан.
Боги Города Солнца. Солдат
В стране Счастья мой отец делал на богах деньги. Когда я поступил на архитектурный, он и меня привлек в этот семейный бизнес. Мой отец с бригадой изготавливали изображения богов и всевозможную наглядную агитацию для колхозов, расположенных в дальних предместьях Города Солнца. Ваяние богов давало приличный доход. За оформление большого колхоза отец брал десять, пятнадцать, двадцать пять тысяч рублей. В то время, если человек получал в месяц двести рублей, это считалась хорошей зарплатой, за три месяца работы отец имел столько, сколько другой зарабатывал за два года. Мы делали все: чеканки, витражи, памятники, росписи, сграффито, рисовали лозунги и плакаты. Если отец чего-то сам не умел, то приглашал художников, которые могли это сделать. Выезды на халтуры открыли мне другую жизнь. До этого я не имел представления, что такое деревня. Я редко покидал Город Солнца. А если это и случалось, то уезжал я все равно в другой город. Деревня была для меня терра инкогнита, которую я стал познавать лишь в качестве странствующего подмастерья ваятеля бого-героев страны Счастья. Здесь я тоже находил свои прелести. Тут также росли сельские орхидеи, нравы были проще, а самогон чище. Хотя на выездах мы сильно не пили. Отец не давал команде распускаться, да и работали мы с рассвета до позднего вечера. Всем хотелось побыстрей «нарубить чемодан капусты» и отправиться с ним обратно в этот сладкий манящий Город, на его бульвары, к герлам, в «Потсдам», к «Дому масонов». В то, что мы делали, отец никогда не верил и всегда добродушно посмеивался над болванами, готовыми платить за это. Хотя всю наглядную агитацию мы изготавливали с настоящей немецкой добротностью. Думаю, еще и сейчас наши сграффито, витражи и чеканки сохранились где-то в сельских дворцах культуры и клубах. Но встречались среди странствующих боговаятелей и настоящие халтурщики. С ними связано много веселых историй, ставших классикой жанра. Про Ленина, которому по пьяни изваяли две кепки, одну на голове, другую в руке. Про Ильича, у которого указующий к коммунизму палец сделали в виде эрегированного члена. А Ленины, показывающие дорогу в винно-водочный магазин, еще и сейчас можно встретить на площадях райцентров. Мне же больше всех запомнилась история про летающего Ильича. Говорят, в каком-то колхозе к октябрьскому празднику решили поставить ему памятник. Пригласили бригаду боговаятелей. Тe попросили аванс. Но вместо того чтобы взяться за работу, они со всей бого-богемной страстью принялись аванс пропивать – у бригады случился запой. Когда же до праздника Революции оставалось несколько дней, поняли, что сделать памятник никак не успеют. Но деньги уже пропиты, да и хочется получить остальное. Тогда боговаятели решили немного надуть деревенских дурачков. Расчет был несложный: сделаем памятник из другого материала, а когда он развалится, мы будем уже далеко. За пару ночей они собрали памятник Ленину из пенопласта. Покрасили, как положено, бронзовой краской. Ночью установили Ильича на центральной площади, накрыли тканью, по периметру повязали ленточки. Утром на открытие пришла вся большая деревня. Собрался президиум – председатель колхоза, парторг, инженеры. Из центра на торжество приехал сам первый секретарь райкома. Он же и ленточку перерезал. Стянули ткань. Стоит Ильич – красивый, ладный, рукой путь к коммунизму указывает. Все счастливы, радуются, торжественные речи о революции говорят. Дело было осенью. Погода стояла неважная. Внезапно налетел резкий порыв ветра, да и сдул Ильича. Полетел Ленин над деревней и вытянутая рука его, к коммунизму путь указующая, совсем с курса сбилась. То на север, то на запад, то на восток, то на землю, то на небо показывает. Долго еще всей деревней Ильича ловили, да за боговаятелями гонялись, чтобы протрезвить тумаком промеж глаз.
Изнанки дворцов
Дворцы для народа в Городе Солнца не были дворцами, а только символически их обозначали. Они создавали иллюзию: рог изобилия был приставлен к конструктивистскому телу, которое имело одну или, в лучшем случае, две дворцовые стены, выходившие на проспект. Они охватывали здание лишь в тех местах, которые можно было увидеть с улицы. Как только видимые с проспекта части заканчивались, изобилие мгновенно обрывалось. Помпезные лепные карнизы, коринфские ордера и оконные сандрики тут же становились серой кирпичной стеной. Они оказывались плоскими дворцами, по сути, дворцами-стенами. В городе-увертюре к Городу Солнца, который должен был появиться не здесь, а семьсот километров дальше на восток, не было необходимости детально прорабатывать главную тему. Ее следовало лишь наиграть, обозначить пунктиром, символически заявить. Город являл лишь въездные врата к истинному Городу Солнца. Поэтому значение имело лишь то, что мог увидеть путник, входивший в эту помпезную Триумфальную арку. То, что находилось с другой стороны, которую он не видел, было не важно, поэтому изнанки дворцов даже не штукатурили. В лучшем случае они имели фрагменты декора, которые помещались просто на кирпичной стене. Декадентское изобилие форм рисовали только на одной стороне листа. Как только ты его оборачивал, открывалась дивная сюрреалистическая картина – бесконечные коридоры плоских дворцов, декорации, построенных в одну стенку. Шаг в сторону – и ты попадал в другую реальность. Коринфские и ионийские ордера, тяжелые карнизы и монументальные арки мгновенно исчезали. Оставались только серые, неоштукатуренные стены, сиротского вида балконы с бельем и немудреными пожитками, монотонный ряд черных окон – настоящая правда жизни. Какие-то люди, совсем не похожие на счастливых жителей Города Солнца, словно персонажи с полотен Брейгеля, куда-то брели, неся за плечами свою маленькую драму. Драму, которая здесь, в этих тихих придворцовых парках становилась заметней, чем по ту сторону стены-сцены, где ее заглушала маршевая поступь римских колонн, египетских обелисков, греческих ваз, каменных изваяний богочеловеков мифологии всеобщего Счастья. Город Дворцов оказывался городом стен, городом плоских анфилад изобилия, предназначенных лишь для того, чтобы восхищенно смотреть на них.
Город Солнца был городом художников и поэтов. Для создания великолепной декорации счастья страна нуждалась в людях, способных талантливо это сделать. В Городе находилось несколько академий муз, в которых обучали мастерству боговаяния, секретам высокого стиля, умению сочинять песни и марши. Не все, кто из них выходил, занимались сложением гимнов. Кому-то было противно ваять богов, а хотелось стать свободным художником. Кто-то, наоборот, хотел бы слагать, но не мог, как мой отец, найти общий язык с людьми из канцелярии Метафизика или хотя бы с председателями колхозов. Кто-то просто спился, так и не успев ничего создать. Но в любом случае художников и поэтов было в Городе много, гораздо больше, чем приходилось на такое же число пролетариев в любой другой стране. Город Солнца не любил своих гениев. Ему нужны были люди, которые работали бы только на его гениальность. Других он душил, унижал, выкидывал из себя. Спастись гении мог лишь уехав из этого Города. Такова была традиция этой земли. Спасались, реализовывали свою гениальность лишь те, кто уезжал, как Марк Шагал или Хаим Сутин. Кто не сбегал – умирали неизвестными гениями. На бадье с квашеной капустой, как Алексей Жданов, или с похмелья, как Анатолий Сыс. Кого-то, как Михоэлса, просто сбивала на улице машина. Городом загубленных гениев называл его Ким – гуру и учитель многих здешних поэтов. Ким Хадеев, имя которого значило – Коммунистический Интернационал Молодежи, был из тех людей, которые никогда не жили в стране Счастья и не верили в ее плоское изобилие. В пятидесятых годах еще студентом он с университетской трибуны призвал к свержению Метафизика, за что несколько лет провел в психушках страны Счастья. Однако, когда началась оттепель, Ким вернулся в Город, где основал свою академию муз. В академии Кима не велось регулярных занятий по греческой мифологии или философии права, но сотни людей, которые за много лет через нее проходили, получали то, что не мог дать ни один университет Города Солнца. Академия Кима размещалась у него дома, на втором этаже невысокого длинного барака, построенного еще пленными немцами. Небольшая квартирка ютилась в квартале, начинавшемся сразу за одной из помпезных анфилад изобилия, неподалеку от площади Виктории, в послевоенном районе, застроенном одинаковыми двухэтажными желтыми зданиями под высокими крышами. Поднявшись по деревянной лестнице наверх, ты попадал в длинный полутемный коридор, пахнущий котами и всегда заваленный каким-то старым хламом. С двух сторон в него выходило множество дверей. Чем-то он напоминал огромную коммуналку. Сразу за дверями начинались отделенные от коридора микроскопическим тамбуром комнаты жильцов, из которых неслись звуки и запахи здешней жизни. Можно было всегда безошибочно определить, за какой дверью сегодня овощное рагу, а за какой – на ужин жареная рыба. За какой дверью живет многодетная семья, а за какой сегодня, также как и вчера, опять пьют и дерутся. Квартира Кима состояла из комнаты, маленькой кухни и туалета. Комната была заставлена высокими стеллажами с множеством книг, всегда под потолком затянутых паутиной. По центру стоял круглый стол, рядом диван и кресло хозяина, в котором обычно сидел Ким с неизменной заправленной в мундштук сигаретой в пожелтевших прокуренных пальцах. На кухонном полу лежал матрац, на котором тоже всегда кто-то сидел, пил или спал. Когда меня впервые привели к Киму, я волновался. К тому времени я уже много слышал о нем, знал, что это абсолютно необычная личность. Кима, правда, в квартире не оказалось. Расположившись на матраце кимовской кухни, мы открыли бутылку вина и стали его дожидаться. Когда Ким вернулся, я увидел небольшого роста худощавого старика с бородкой, немного напоминавшей бородки с портретов классических бого-героев. Радостно поприветствовав нас, – а Ким всегда искренне радовался появлению новых, незнакомых ему людей, – он достал из авоськи баночку сметаны, и принялся ее есть, черпая ложкой прямо из банки. При этом он взялся обсуждать достоинства и недостатки нового романа какого-то русского писателя, имя которого я никогда раньше не слышал. То, с какой простотой Ким говорил о сложных вещах, прихлебывая из банки сметану, время от времени капавшую ему на одежду, потрясло меня. Хадеев был человеком невероятных знаний. Периодически он подрабатывал тем, что писал за деньги научные диссертации. Сам он, естественно, никаких степеней не имел, но за свою жизнь написал для других двадцать пять кандидатских и пять докторских диссертаций на самые разные темы. Причем первую из них – по психиатрии – он сделал для главврача психбольницы, в которую его упекли за призыв свергнуть Метафизика. Квартира Кима была одним из тех мест, где в лабиринтах, скрывавшихся за фасадами изобилия, начиналась реальная жизнь. Здесь никто не говорил, что кровь это вино. Кровь называли кровью, а вино вином. И, конечно же, крови предпочитали вино, которое всегда рекой лилось в Академии Кима. Рекой, впадавшей в бездонное озеро споров, дискуссий о поэзии и литературе, о театре, искусстве, обществе и философии. Круглые сутки квартира Кима была заполнена людьми, которые шли сюда – кто с новым романом, кто с только что написанными стихами, кто со сценарием, кто с орхидеями, кто просто с идеями и вином. Ким всех принимал, хотя его жизнь становилась похожа на быт в многолюдной коммуне, где вряд ли возможно уединение. Много лет он писал две книги. Одну по философии, которую назвал «Двоичность», и сказку, похожую на притчу о стране Счастья. Многих, кто к нему приходил, Ким называл гениями. Были и те, кто считал его дьяволом, искушающим души юных поэтов. Скорее, он их пробуждал, жалел и старался помочь. Наверное, зная, что рано или поздно этот Город их сожрет. Как в один сентябрьский день сожрал и его самого.