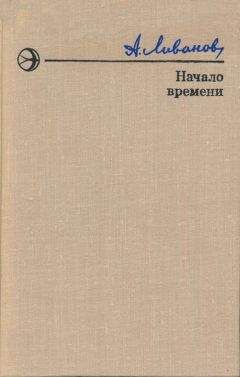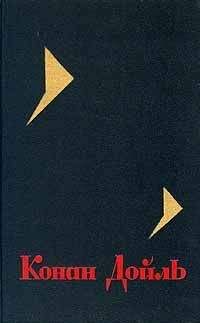Я пытаюсь помочь матери: мне интересно поскоблить корыто, но взяв нож в руки, я тут же увлекаюсь; на изнанке тонкой ленточки теста, которую строгает у меня нож, заметна бурая дорожка. Это уже древесина от корыта! А тесто нужно матери, чтоб была закваска для будущей квашни. Мать отнимает у меня ноя? и сама быстро–быстро заканчивает скобление. От корыта приятно шибает в нос кислым хлебом и еще немного тем запахом, который издает отцовская пляшка.
Впервые я его увидел на дворе маслобойни Терентия. Вместе с другим мужиком Степан распускал бревна. Толстые и длинные сосновые стволы они укладывали на высокие козлы, напарник Степана забирался наверх, а Степан оставался внизу. Пила, которой онн распускали сосновые стволы, была огромных размеров, и зубья — под стать пиле — тоже были такими большими, что казались клыками некоего фантастичного зверя.
Как обычно, Степан и здесь стоял на подхвате. Управлял им напарник. Слегка склонившись вперед, он в рост стоял поверх бревен, задавая Степану и ритм, и наклон пилы, и нажим. Дело Степана было — почувствовать и ритм, и нажим, а главное, тянуть, тянуть пилу. У зубьев пилы наклон был в Степанову сторону, так что, собственно, пилил он. Безропотно, целыми часами, без передыху Степан и тянул пилу, сверкавшую молниями на солнце. Степан не имел возможности даже вытереть пот с лица или стряхнуть с выгоревших — точно два зрелых ряганых колоска — бровей сыпавшиеся на них опилки. И так — пока напарник не крикнет «перекур!» или «шабаш!».
Даже ручка у Степана была не такая, как у напарника. Не с просторным железным кольцом, которое можно было охватить обеими руками, а в виде съемного деревянного чурбака. Когда место распила доходило до козел, Степан снимал с пилы чурбак, подавал бревно немного вперед, после чего пила снова вставлялась в распил — уже с другой стороны козел. Работа снова продолжалась. Мужик то и дело покрикивал на Степана: «Наддай левей!», «Наддай правей!», «Веселей наддай!»
Стоящему наверху была видна линия распила, обозначенная поверх бревна плотницким шнуром, надраенным мелом.
Откуда взялся в наше село Степан, никто не знал. Но судя по всему пришел он к нам на заработки не от хорошей жизни. Он брался за любую тяжелую работу, никогда не торговался, даже не спрашивал о плате. Его и батраком нельзя было назвать. Степан так не щадил свое достоинство, что никто не решался поручить ему какое‑нибудь самостоятельное дело в поле, для которого требовалось бы доверить волов или лошадь. Скорей всего, его все сочли недоумком. А все из‑за молчаливой застенчивости. Доставалась ему работа, за которую никто не брался. Платили ему гроши, а то он и вовсе работал «за харчи».
Степан был малорослым, но очень коренастым, широким в плечах. Четырехпудовые мешки он таскал, как бы играючи. И мужики, посмеиваясь, нередко злоупотребляли его силой, а иной раз и попросту подличали. Я сам, например, видел, как таская втроем огромный сосновый кряж, молодые мужики, шедшие по краям, вдруг перекашлявшись, приседали, чтобы вся тяжесть бревна досталась Степану. Все говорили, что здоровье у него, как «у быка», что «ему только жернова ворочать».
Даже огород вскопать редко поручали Степану. То он рыл сточную канаву на бойне, то на дворе Терентия два дня боролся с большущим корневищем засохшего дуба. Это корневище потом едва тянула пара волов, запряженных в воз. Мне казалось, что со двора Терентия увозили самого лешего.
Степан был очень конфузлив даже в разговоре с нами, детьми. Деньги, заработанные неимоверным трудом, Степан носил за пазухой в красной тряпице, бугорочком выдававшейся под заплатанной посконной рубахой с потрепанным до бахромы воротом. Все село знало об этих деньгах, и они являлись предметом вечных разговоров и насмешек мужиков.
— А для чего ты деньги копишь, Степан? Еще потеряешь…
— Лучше бы пропил их или с девками прогулял бы? — в сотый раз советовали Степану.
— Не–э! Я жениться хочу, — неизменно ответствовал Степан, умильно улыбаясь и мучительно краснея. О том, что можно бы промолчать и не высказывать своих заветных мыслей, ему, видно, на ум не приходило.
Как‑то на пасху Степан вернулся из города в новой фуражечке. Это была дешевенькая детская фуражечка из синего сатина, с высоким околышем и жестяным якорьком. Якорек был до того смутным, что скорее напоминал свернувшуюся озябшую гусеницу, чем гордую эмблему романтиков моря.
Наши парубки и молодицы проходу не давали Степану: притворно изумлялись этой прекрасной фуражечке, всплескивали руками, ахали, прицыкивали языком.
Степан краснел и с невиданным терпением — в тысячный раз уже — отвечал, что «кашкет стоит тридцать копеек», что «кашкет куплен в городе на базаре» и что он не знает для чего спереди «жестяная штуковина».
— Да ты теперь вроде милиционера!
— Фуражка — форменная, отберут ее, Степан!
— Дай‑ка, еще раз померяю, пока не отобрали!
И это «еще» не знало конца. Кому не лень, по многу раз снимали с головы Степана его фуражку и мерили, и передавали другим мерить. Фуражка с якорьком переходила из рук в руки, с головы на голову. Степан стоял с обнаженной головой, мигал выгоревшими ресницами и покорно и терпеливо ждал, когда вернут ему трехгривенный кашкет.
Грицько Гоптарь, гармонист и бабник, а главное, дружок контрабандиста Петри, однако, был избит за то, что в своих шуточках над Степаном зашел слишком далеко.
Как‑то закончив рыть очередной погреб, получив деньги за двухнедельную работу, Степан, видно, счел себя богачом, сел за проверку наличного капитала. Достал из‑за пазухи и развязал свою кассу в красной тряпице. Подвыпивший Грицько подсел к Степану на завалинку, когда тот был погружен в подсчет своих столь тяжело доставшихся ему медных и серебряных кружков.
Степап многим давал считать свои деньги. По сделал он исключения и для Грицька. Исчезновение серебряного рубля, возможно, осталось бы и незамеченным для Степана, если бы тот не был единственным в его медном капитале. Пропажу Степан обнаружил только на второй день и со свойственной ему кротостью, разве что без своей обычно виноватой усмешки, сказал об этом моему отцу. Нет, это не было жалобой! На жалобу Степан был неспособен.
Отец и присутствовавший при разговоре Марчук тут же отправились к Грицьку, который уже два дня вовсю «керосинил» на уворованный рубль.
Грицька с похмелья долго не могли разбудить. Он лежал на рядне в клуне, раскинув руки, точно распятый Христос. Неразлучная гармонь Грицька была тут же. Кто‑то (но дороге к отцу и учителю присоединилось несколько комсомольцев) предложил реквизировать гармонь, по Марчук, поразмыслив, сказал, что это будет самоуправством. Пнув Грицька деревянной ногой, обозвав его пьяным хряком и сплюнув в сердцах, отец первым вышел из клуни.
Так бы и кончилась история ничем, но вечером парубки (вероятно, не без участия тех же комсомольцев) подстерегли Грицька. Его били от души, долго и замысловато. Уже прошли те времена, когда контрабандисты во главе с Петрей держали в страхе все село. «Только скажите, за что! Братцы, скажите за что!» —кричал Грицько. Видно, на совести его было слишком много грехов и ему трудно было догадаться, за что именно бьют его сейчас.
…Не помню, вернул ли Грицько рубль серебром, но все село учиненную над ним ночную экзекуцию одобрило.
Держа гармонь под мышкой, точно волк–шатун, Грицько теперь бродил по селу, не смея приблизиться к месту сборища сельской молодежи. А было таких мест несколько: рощица за церковью, где я впервые увидел подснежники; обрывистый берег возле кордона, и та верба, чьи срезанные ветки в моих руках так и не пожелали стать свистками…
Это было в пору моего увлечения «насосиками». Пряча под рубашкой мамин кривой нож с самодельной ручкой (две дощечки, обмотанные шпагатом и залепленные тестом), я отправляюсь в рощицу за церковью. Там много бузины. А мне надобно много бузиновых веток для насосиков. Меня захватила стихия изобретательства. Я научился делать насосики разной длины и диаметра, одноструйные и многоструйные (то есть с одной дырочкой или с несколькими — сбоку или с глухой, перепончатой стороны бузиновой веточки). Андрейка и Анютка, убедившись в надежности моей работы, дают мне все больше заказов. Я горжусь этими заказами. Как всякий настоящий изобретатель, я чужд и честолюбив. Я обучаю Андрейку и Анютку, посвящаю их во все секреты.
Даже отец и Василь, учитель и батюшка нет–нет похвалят мои насосики. Холодный душ из каждого насосика прежде всего достается равнодушной Жучке и курам.
И, как настоящий изобретатель, я недоволен собой, не довольствуюсь достигнутым. Я мечтаю найти такую толстую и ровную ветку бузины, чтоб насосик вобрал бы зараз полную кварту воды!..
…Нож я, однако, прячу под рубашку. Во–первых, старшие мальчишки могут отнять; во–вторых, это дает возможность избежать нежелательные расспросы: куда и зачем иду я с ножом; в–третьих, самое главное—это «в–третьих»… Я боюсь, как бы не обнаружили сельчане, насколько в рощице за церковью поредели кусты бузины от беспощадного ножа моего…