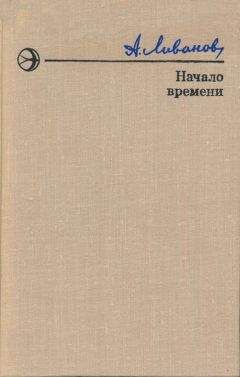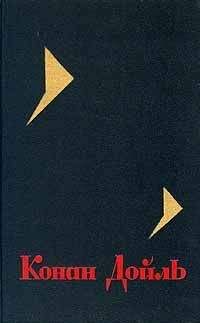…Нож я, однако, прячу под рубашку. Во–первых, старшие мальчишки могут отнять; во–вторых, это дает возможность избежать нежелательные расспросы: куда и зачем иду я с ножом; в–третьих, самое главное—это «в–третьих»… Я боюсь, как бы не обнаружили сельчане, насколько в рощице за церковью поредели кусты бузины от беспощадного ножа моего…
И я орудую скрытно. Совесть моя нечиста. Туда иду с ножом под рубашкой, обратно с жердочками бузины под той же рубашкой…
Но чьи это голоса слышу я в рощице? Я, крадучись, подбираюсь поближе. Сердце мое бьет тревогу. Неужели меня выследили? Видно, попался: сделали засаду — и выследили!..
…Кого я вижу! Степан сидит на траве, его фуражечка с якорьком–гусеницей лежит рядышком. Перед Степаном расстелен белый треугольник девичьей косынки. На косынке — огурцы, розоватые яйца, еще что‑то из еды…
Какая это добрая душа так щедро угощает Степана? Выглядывая из‑за веток, я думаю о том, что женский голос этот мне вроде знаком. Да как же я сразу не узнал Горпину! Горпина батрачит не только в нашем селе, а во всех ближних селах. Как и Степан, она тоже не отказывается ни от какой работы, но главным образом она зарабатывает себе на пропитание тем, что белит известью хаты. Обычно это делают сами бабы, но Горпина берет такую сходную плату, что все нередко уступают ей эту работу.
Это только говорится: легко обмазать и побелить хату, а на деле это значит мешками натаскать глины из глубокой ямы у кордона (единственное место, где у нас есть глина); глину эту непросто накопать: она лежит узкими слоями между песчаными, меловыми и кремневыми слоями. Затем нужен кизяк. И не какой‑нибудь. На обмазку хаты годится только конский кизяк. Его на селе мало, потому что и лошадей наши мужики не держат: на волах пашут. Слишком дорого стоят лошади. Да и неторопливой жизни крестьянской больше подходит неспешная, размеренная, как бы задумчивая поступь воловья. Куда мужику спешить? Он ценит размеренность и покой.
За кизяком Горпина ходит на городской тракт. Порою далеко–далеко приходится уходить Горпине. Й потом издалека возвращается она с мешком лошадиного кизяка за спиной. Кизяк, особенно свежий — тяжелый, как свинец. Я не раз видел, как, скрючившись в три погибели, несет этот кизяк Горпина… От известки кончики пальцев Горпины все изъедены до язвочек. Пальцы ее поэтому всегда обмотаны тряпочками.
Горпину на селе жалеют. Еще несколько лет тому назад она жила хорошо: были у нее отец и мать, была у родителей своя хата. Но молния подожгла их дом, и Горпина осталась одна на пепелище. Только глиняная клуня уцелела от пожара. Там и живет Горпина. Мать ее сгорела заживо. Горпина в тот день полола свеклу на экономии, бывшей панской экономии, отошедшей после революции сахарному заводу.
Помню страшную грозу после пожара, Горпину, подбитой птахой спешившую сквозь ливень и плачущую навзрыд. Мать, всегда боявшаяся грома, стоит на пороге и, глядя на Горпину, тоже рыдает.
— Еще бедолага сердешная не знает, что она сиротой осталась, — сжала мою руку мама. — И чего это господь карает всегда самых бедных, самых несчастных? — не то у меня, не то у грозы или у самого господа бога с горькой укоризной спрашивала мама.
Отец Горпины подался куда‑то из села на заработки, и как в воду канул. Горпина осталась верна родному пепелищу…
Но все это в прошлом. Теперь Горпина улыбается. Она смотрит на Степана и совершенно счастлива. Кажется, чтобы всегда быть такой счастливой, ей только и надо вот так сидеть и смотреть на Степана. «Ешь, ешь, милый мий!» —говорит Горпина. Сама очистила розовое яйцо и подала Степану. Тот, растроганный, берет яйцо, кладет его рядом с хлебом, не ест, смотрит на Горпину. Он ни чуточки, к удивлению моему, не конфузится! Лицо Степана сейчас доброе и задумчивое. Он с грустью смотрит на Горпину, словно она маленькая, а он думает о том, что же с ней будет в жизни. Так, бывает, смотрит на меня мать…
— А скоро уже? — спрашивает Степан.
— Скоро, любый, скоро, — внезапно раскрасневшись, но такая же счастливая, говорит Горпина, закрывая лицо передником; она смеется потаенно чему‑то хорошему, — вот дай руку…
Горпина, не открывая лица, берет большую, как лопата, руку Степана и кладет себе на живот: «Чуешь?»
Своей рукой, с пальцами, обмотанными тряпочками, Горпина удерживает руку Степана, и оба замирают, точно к чему‑то прислушиваются. Я тоже прислушиваюсь, но, кроме чирканья воробьев, ничего мой слух не улавливает.
— Скоро будем втроем, любый, — говорит Горпина, тревожно следя за лицом Степана. Оно тоже счастливое, но грустное и задумчивое. Ни разу я не видел таким Степана!
«Будем втроем», —догадываюсь я, почему‑то тоже вдруг краснея.
Я спохватываюсь, что невольно подслушиваю, что могу помешать важному разговору Степана и Горпины. Бог с ними, с насосиками! Я еще раз приду…
Тихонько, на цыпочках, поворачиваюсь, чтобы уйти. Последний раз взглянул на Горпину. Ее все считают рябой и некрасивой. По–моему, зря так считают. В ее улыбке я даже угадываю что‑то схожее с красивой молоденькой поповной Леной, с Марией, которую мать считает «писаной красавицей». Меня переполняет бескорыстное чувство благожелательности к Горпине и Степану. Я всегда жалел их за то, что у них нет матери, нет своего дома, за то, что им трудно живется на свете, и я теперь рад видеть их счастливые лица!
Я думаю о том — сказать ли дома об увиденном? Не повредит ли это Степану и Горпине? Но дома я все же не сдержался — выкладываю все начистоту. Даже не утаил, что Горпина сказала Степану: «Скоро будем втроем, любый мой».
Я не ждал, что последнее сообщение мое так встревожит мать. Приложив ладонь ко рту, она изумленно вскинула брови и с испугом посмотрела на отца. Странно, и отец, крошивший на краю стола свой самосад, вдруг прервался. Нож так и замер в его руке.
— Выдь‑ка, погуляй, — сказала мать. Это после‑то прогулки в рощицу! Эх, зачем я только выдал тайну Степана и Горпины! Знаю я это «выдь, погуляй».
Под каким‑то предлогом я вернулся в хату. Обо мне, кажется, забыли. Родительский разговор далее идет в моем присутствии. Опасности для Степана и Горпины, кажется, не таит он.
— И слава богу, — сказал отец, — лучшего мужика ей и не найти. Правда, бают на селе, что у Степана не все дома. Ну одно и то же, что блаженный. — Принялся отец опять за свой самосад. — Народ ведь какой! Хитрецы да нахалы — вот те умные, вот у тех все дома!
— Но свадьбы, свадьбы‑то не было!.. Что скажут люди!
— Э–эх бабьи мозги! Главное — «что скажут люди»! Что толку в той свадьбе, в том — что скажут люди?.. Хату, хату им надо поставить. Не жить же им в клуне Горпины. Хата — воно што главное. С Гаврилой, с Марчуком потолковать надоть бы. Может, толоку соберем…
Отец ребром ладони решительно столкнул с края стола табачное крошево в свой кисет со шнуровкой; хозяйски обдул нож, сложил его, и вместе с поводом–сшивальником, на котором этот нож всегда пребывает на привязи, точно бодливый бычок на колышке, спрятал в карман.
Только после этого отец закурил и, дымя цигаркой, крепко задумался. Мать молча смотрела на него, чего‑то ждала или хотела спросить, но не решалась. Отец всегда сердился, когда прерывали его думки.
Наконец напялив свою баранью шапку (она и зимой и летом служит отцу верой и правдой) и переваливаясь с ноги на ногу, двинулся к двери. Не успел я его расспросить, что означает слово толока.
Против ожидания, мать толково объясняет мне, что толока — это когда все село, всем миром ставит дом погорельцу. Как интересно!
Когда отец и Марчук спорят, мать как бы и не слышит, а нет–нет вставит свое слово, и оказывается: и все слышит, и обо всем услышанном думает. Возится у печи, то за кочергу, то за ухват берется, а между дел и слово свое вставит в мужской разговор. Чаще всего берет мать сторону Марчука. «Мудрая жена у тебя, Карпуша!» —радуется Марчук материнскому слову. Отец хмурится, но ругать мать при госте не смеет.
Мать опасливо взглядывает на отца и продолжает греметь ухватами. Целомудренной материнской душе чужды шумные излияния и суетные споры. Она — как речное течение. Где глубоко — там оно тихое и неприметное…
Что случилось с отцом? Он не ест, не пьет, не прикладывается к пляшке; целый день как угорелый носится он от Терентия до клуни Горпины, оттуда до Марчука или к Гавриле Сотскому, в сельраду. Можно подумать, что отец любимую дочь выдает или старшего сына женит, а не просто хлопочет о свадьбе чужих ему Горпины и Степана.
Вот он опять показался, отец, в улочке между плетнями — нашего и Василя огородов. Ковыляет, спешит домой — плечи, как всегда, чертят в воздухе восьмерку. Едва переступив порог, он скорей снимает свою порыжевшую и свалявшуюся всю косматую баранью шапку, кладет ее на лавку и тяжело, словно приставший конь, переводит дыхание. Со стороны может показаться, что все тяготы жизни его заключены в этой шапке. Посмотрев на меня отсутствующим взглядом, отец присаживается рядом С шапкой, упирает обе руки в лавку, смотрит на печь, будто впервые ее видит. И, словно что‑то вспомнив, одним махом встает, идет к висевшему на гвоздочке в углу полотенцу, вытирает пот со лба и шеи. Когда‑то это вышитое полотенце по праву называлось «полотенцем с петухами». От некогда клеточно–прямоугольных и красно–черных петухов осталось одно воспоминание в виде вылинявших «жердочек», ниточек и хвостиков. Открыв дверцы мисника, отец достает початую буханку, луковицу и серую соль в глиняной махотке. Он внимательно рассматривает буханку со всех сторон, наконец останавливается на том месте, где корочка напоминает щучью пасть, полную острых зубов. Эту горбушку отец и отрезает своим ножом. Горбушку он натирает очищенной от золотой кожуры луковицей и посыпает ее крупной солью из глиняной махотки.