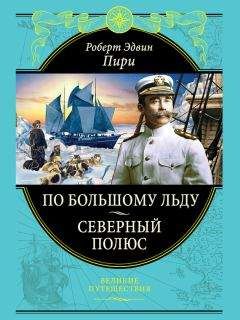Недавно после экзаменов в институте я спустился к выходу вниз по лестнице и, подойдя к застекленной двери, долго смотрел на улицу.
Улица была полна незнакомыми и какими-то очень странными людьми. Даже в сердце кольнуло. Я вдруг с тревогой подумал, что эти люди могут никогда в жизни больше не встретиться мне! Они могут просто не увидеть меня больше, так же как и я их. Я стал внимательно наблюдать за прохожими. Они шли мимо бесконечной вереницей, как будто связанные невидимой, но крепкой веревкой. И я вдруг подумал о том, что и меня тоже свяжут, и вся здешняя жизнь моя превратится в такое же безостановочное движение.
Потом я вспомнил о педагогах, которые принимали у меня экзамены, и пришел к выводу, что моя судьба их мало интересует. Не я, так другой сдавал бы экзамены вместо меня. А ведь ты вспомни, бабушка, когда в наших местах появлялись незнакомые люди, то деревенские жители всегда расспрашивали у них: «Откуда вы? По какой надобности? Каких корней?» А здесь никто ни о чем не расспрашивает, разве только медицинскую справку потребуют и аттестат зрелости…
Ну а раз я вспомнил об аттестате зрелости, то теперь, родненькая моя, сообщу тебе, ради чего я приехал в столицу. Только прошу наберись терпения и выслушай меня до конца, и ради бога, не говори об этом Нюре, потому что ей, может быть, будет очень больно от этой новости, и дяде Пете не говори по тем же соображениям, и дружку моему Толе не сказывай. Итак, милая моя бабушка, еще раз прошу тебя — не отчаивайся и не считай меня слишком глупым. Я решил стать профессиональным драматическим артистом, и с этого пути меня уже не свернешь! Но, несмотря на твердое решение, во мне борются какие-то странные противоречия. С одной стороны, я очень люблю театр — за силу сказанного со сцены слова, за его смелость, страстность и многое другое. А с другой стороны, я все больше и больше убеждаюсь в том, что какая бы ни была удивительная игра актеров — это все равно игра! А мне, бабушка, не игры, а правды охота! Я знаю, родненькая моя, что ты не читала трагедий Шекспира и никогда не была в театре, но правду ты хорошо чуешь. Поэтому выслушай меня. Я отлично помню нашу уборочную страду. Помню, как мы сеяли, жали и молотили жито. Особенно помню жатву: дождливый мрачный вечер, мы потные, разгоряченные стараемся приблизиться к последней житной полоске, а она, словно линия горизонта, как будто совсем не приближается к нам…И помню я, родненькая моя, как мы подбирали каждый худосочный колосок, вплетали его в копну, почти по зернышку собирали суслоны. Сколько нужно было усилий, чтобы сложить эти суслоны в овин, и все это для того, чтобы иметь пусть и малый, но все-таки кусок хлеба. И вот несколько дней назад, милая моя бабушка, я получил твою двадцатку и, достав себе обновку за семнадцать рублей, на три рубля накупил разного хлеба. Надо сказать, что белые булки в столице и в самом деле очень вкусные, особенно сдобные кирпичики за тридцать копеек. Хлеба я набрал на целую неделю, потому, как тебе известно, люблю черствый, почти сухой хлеб и, кроме того, у меня сейчас совершенно нет времени ходить в магазин. Ведь я уже прошел основные экзамены в институт и теперь готовлюсь к общеобразовательным предметам. Так вот, прихожу я позавчера из библиотеки, открываю свою тумбочку, а хлеба там нет. Спрашиваю у сокурсников: «Где хлеб, ребята?» А они мне в ответ: «Тараканы съели…» — «Какие тараканы?» — «Двуногие», — отвечают. Потом объяснили: «По комнатам санитарный рейд ходил, вот им и не понравились твои сухари…»
Досадно мне стало. Я ведь, родненькая моя, специально хлебушек подсушивал. Да пусть бы он и совсем засох, но как так можно по чужим тумбочкам шарить! Разыскал я студентов из этого рейда, спрашиваю у них: «Куда вы дели хлеб из двести шестнадцатой комнаты?» А они мне в ответ: «Съели мы твой хлеб, парень, разделили на три части — и съели, а сухари выбросили… Вопросы еще будут?» — «Вопросов, — говорю, — больше не будет, только за такие шуточки по морде полагается!» А один из них, что поздоровее немного и постарше остальных лет на пять, посмотрел мрачно на мои ботинки да ехидно так и спрашивает: «Ты из какой тундры прикатил?! У нас тут свои порядки, а если общежитие не нравится — фатеру сымай!» А эта фатера знаешь сколько здесь стоит? Ноги вытянешь — не расплатишься… Вот и подумал я тогда, глядя на этих парней из «санитарного» рейда: «А ведь через четыре года учебы из меня может получиться такой же зверь, как они, и на сцене, кроме злодеев, мне больше ничего не доверят играть…»
Поднялся к себе в комнату, бросился на койку и разревелся. А утром мои сокурсники, видя, что мне плохо, предложили сходить в учебный театр на просмотр курсовой работы. Честно говоря, такого предложения я не ожидал, потому что соседи мои по комнате очень неразговорчивые ребята. Но отказываться не стал. Часа через полтора был уже в театре. Ты не представляешь, какое радостное чувство испытал я, глядя на сцену. Слезы навернулись на глаза, когда заиграла торжественная музыка и занавес стал медленно раздвигаться. И вдруг вижу: на сцену вышли, кто бы думала? Да, эти самые трое злодеев! Только лица у них были совсем другие, и глаза какие-то непохожие на те, что я видел в общежитии. И не потому, что они были чересчур нагримированы, а просто они казались добрыми, отзывчивыми, чуткими, как будто их подменили. Они и роли играли такие же доброжелательные, и даже нравились многим зрителям. Но я-то, миленькая моя, уже знал, какие они! Весь спектакль я только и думал о том, как же ловко человек может скрывать свое истинное лицо! Я поинтересовался у своих однокашников по комнате, знают ли они этих студентов. И ребята по секрету сказали, что знают и что вчера у них была небольшая пирушка, и мой хлеб, по-видимому, пошел на закуску.
Вот так, милая моя бабушка! Для них, родненькая моя, хлеб — закуска, а для меня…
Ну да ладно… Спасибо тебе, родительница моя, за пятерочку, которую ты в письмо вложила, спасибо за сушеные грибы, ягоду кислую. Теперь у меня все есть: и хлеб, и суп грибной, и кисель. Конечно, готовить самому времени не хватает, но зато дешево и сердито.
Милая моя бабушка, я обязательно приеду, как только сдам все экзамены и подзаработаю немного денег на товарной станции. Письмо свое заканчиваю, потому что уже три часа ночи и товарищам по комнате очень мешает свет настольной лампы.
Обнимаю тебя. Привет Нюре, дяде Пете.
Твой внук Федя.
16 августа
Феденька мой, солнышко мое единственное!
Сегодня утром, не успела я самовар вскипятить, как вдруг со стороны взвоза постучала почтальонша Тоня. Открываю конверт, а сама плачу. Думаю, вот мой Феденька столько бумажки исписывает для своей бабушки! А ведь на бумажку тоже копеечка нужна… где же ему набраться этих копеечек? Прочитала я письмо — и ничего делать не могу, а надо овечкам корма дать, воды принести. Посидела я у оконца, поплакала и опять письмо перечитала. И вот что, Феденька, я тебе скажу — не за свое дело взялся, мальчик мой, не мужицкое, а отсюда и боль в душе. Вторая твоя ошибка, Феденька, что ты не посоветовался с бабушкой своей при выборе основного дела. Мало ли у нас в России рук требуется! И плотники, и каменщики, и шофера, и на лесоповале сколько рук надо! А на дворах скотных? Что же ты надумал, Феденька, на артиста учиться? Да у нас в роду даже в церкви никто не пел, не то что на сцене. А я за свою жизнь всего один раз в театре была, в Архангельске, когда к доктору ездила. Ты пишешь, мальчик мой, что тебе правды охота, это хорошее желание, Феденька. Только всем ее хочется. И эти трое тоже бы от правды не отказались. Но за нее, мальчик мой, бороться надо, за правду-то, изо всех сил бороться! И для этого надо не только здоровье крепкое иметь, но и знать много. А человек теперешний так устроен, особенно за деревенских скажу, знает мало и видит не дальше своего двора, а правды хочет на всю Россию. А ведь любить правду и жить правдой не многим людям под силу. Вот я и думаю, хватит ли у тебя сил? Здоровья, думаю, хватит, а вот знаний и упрямства в достижении своей цели хватит ли? А злые люди, Феденька, вряд ли когда-нибудь переведутся. Потому сомнения твои понятны. Но ведь у тебя своя голова есть. Ради бога, мальчик мой, не переживай за мерзких оборотней и не вздумай пока учить их или спорить с ними. Ведь у тебя так мало еще знаний, смышления, а друзей настоящих, кроме бабушки твоей единственной да землячки Нюры, никого нету. А то, что ты, Феденька, без хлебушка остался, так это не самое страшное. Может и так случиться, не дай бог, что ты от любой правды откажешься, от родных, от любимого дела, лишь бы только хлебушек был… А пока, Федя, совесть свою береги да сердечко чуткое. Нынешняя-то молодежь то и другое теряет, пока в начальники выбивается или в знаменитости. А ты, Феденька, совестливым будь, терпеливым… Хорошо, мальчик мой?
У нас на селе нынче практичным человек стал: только о прибавках думает да о своей выгоде. Мало кто о душевной красоте. Попроси кого-нибудь, особенно из вербованных, воды в баньку натаскать для старого человека или дров с улицы принести — шага не сделают! А ведь я для радости душевной многим теплые носочки вяжу, без всякой выгоды. А сколько я рукавиц только от одной жалости заштопала! Только из-за сострадания… От добра, Феденька, добра не ищут. Вечером позапрошлой неделей ко мне Петька Чумаков постучался, плотник из Омутища, крепко выпивший. «Дай, — говорит, — баба Дуня, бутылочку. Я знаю, что у тебя есть… Или продай, на худой конец». А сам еле на ногах стоит. «Как же я тебе дам, — отвечаю я, — ежели ты бедолага такой?» Бутылочка у меня, конечно, была, на корне настоянная. Но ведь он, Петька-то Чумаков, как в обмороке качается. Я ему: «Сядь, Петя, на лавочку, чайку со мной выпей, ты ведь, наверное, с топором намаялся».