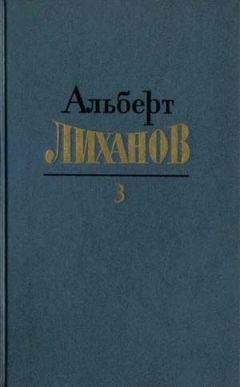— Анна Николаевна, голубушка, очнитесь!
Нинка просунулась вперед, протянула что-то под нос классной, я уже знал, что это нашатырный спирт. Та дернулась, открыла глаза, попробовала вскочить со стула, но не смогла. Спросила:
— Что такое? Как же так?
— Ничего такого, — отвечала Нюра, — ну-ка попейте, с сахаринчиком! Попейте!
Анна Николаевна сделала глоток, горячий чай помог, она глубоко вздохнула, обвела класс мутными глазами, проворчала:
— Какой позор!
Заприметив Правдину, велела ей:
— Нина, вот тут, — она подтолкнула учебник, — диктант… Продиктуй классу. Я сейчас вернусь…
Нюра ее пробовала поддержать, но Анна Николаевна двинулась резким, решительным шагом, держа в руке стакан с недопитым чаем, они исчезли из класса, плотно притворив дверь, а Нинка, покрикивая, принудила нас раскрыть тетради по русскому, и тут вдруг Вовка Крошкин негромко спросил:
— А вы заметили? На ней не было камеи?
Слова эти, произнесенные негромко, попуще взрыва грохнули.
Весь класс будто охнул или хором вздохнул.
— Может, она отцепилась, пока ей плохо было? — пискнул кто-то, и Нинка стала передвигать немногие книжки на столе. Человека три или четыре полезли враз под учительский стол, ясно, что началась кутерьма. Класс поднялся со своих мест, и мы стали осматривать каждый кусочек пола — ведь ясно, что круглый — ну, овальный — предмет мог покатиться, отскочить, забиться в угол.
Перекрывая шум и гомон, Нинка, стоявшая на месте учительницы, крикнула Вовке:
— А ты когда заметил? В начале урока? Или когда она выходила?
Вовка точно знал, что камеи на Анне Николаевне не было, когда она выходила. А вот вначале — этого он не помнил.
Потихоньку все уселись. Стали наперебой вспоминать:
— Да вроде…
— Нет, не была!
— Да как же — была!
В общем, дело ясное, что дело темное. Уж смотрим мы, смотрим на нашу учительницу по пять часов кряду каждый день, а заметить, что камея исчезла — не смогли.
«Может, она забыла надеть? — успокаивали мы себя. — А может, кому дала поносить, мало ли, может, у кого-нибудь день рождения».
— А, может, она продала? — снова негромко спросил Вовка Крошкин, и вот тут действительно настала мертвая тишина. А он еще добавил: — Чтобы нам витамины купить!
— Но пока что, — вернула нас к жизни Нинка Правдина, — у нее голодный обморок.
Нинка в обмороках разбиралась. Я, кстати, тоже. Только со мной случались совсем другие обмороки.
* * *
Охо-хо, новые люди, а ведь вам, я предполагаю, надо еще и объяснить, что же это такое за явление — обморок.
Ну, если следовать урокам русского языка, которому учила нас незабвенная Анна Николаевна, то корень этого слова составляет другое самостоятельное слово — морок.
Морок — это мрак, сумрак, мрачность, темнота, густота воздуха. Так что если ты впадаешь в мрак, то значит попадаешь во тьму, в бесчувственность. Твой ум омрачается. Ты впадаешь в бессознательность, в бесчувственность. На какое-то время теряешь сознание.
Происходит это по нескольким причинам, и про все лучше знает доктор — мне же известны три: от малокровия, от голода и от угарного газа.
Когда человек голодный, кровь от головы его отливает, вот он и отключается. То же самое, когда у тебя, допустим, малокровие — мало красных кровяных телец. Но для меня самый знакомый обморок — угарный.
Дом-то, в котором я родился и вырос, — деревянный. А в нем печки. Топили мы их дровами. Отец на войне, мама на работе, бабушка, к примеру, ушла в деревню, и это дня три, а то и все пять — менять мамины довоенные платьишки на муку, или по другим причинам ее нет, так что старшие научили меня самого печки топить.
Сначала надо приставить к печи стул, вытянуться на цыпочках и выдвинуть задвижку, чтобы дым шел. Потом открываешь дверцу топки, — дрова мама с вечера накладывала, так что они успевали просохнуть, еще и кусок газеты подсунет, бывало, чтобы, значит, имел я полную боевую готовность. Остается только чиркнуть спичкой о коробок, поднести ее к газете, да захлопнуть дверцу, ну и еще одну дверцу распахнуть — у поддувала.
Воздух тянет в поддувало, огонь разгорается бодро, сильно, дровишки щелкают, пламя гудит, а ты, прижавшись спиной к постепенно теплеющей печке, учишь уроки, выводишь чудные волосяные и толстые линии, решаешь задачку или читаешь «Остров сокровищ», мечтая не о сундуке с золотом, а о коробке с яичным порошком, и такая у тебя на душе красота и покой!
Вот эта мечтательность, похоже, меня и подводила. Ведь главное в искусстве топить печки — это. к вашему сведению, не огонь запалить, не головешки кочергой ворочать, чтоб скорей прогорали, а задвижку закрыть. Все уже, огонь отпылал, печка нагрелась, в пасти печной настала темень, только угольки пышут. Так вот все умение в том заключается, чтобы задвинуть задвижку лишь тогда, когда синие огоньки в печи отпляшут, отгуляют. Раньше захлопнешь — и угоришь. А позже закроешь — печь выстудишь: напрасно топил. Ведь дров-то немного, всего несколько поленьев. Надо их экономить, а значит, беречь тепло. Вот я и берег.
Захлопнешь задвижку — вроде все прогорело. Читаешь дальше великого Стивенсона. И вдруг — раз-раз! — все поплыло, закружилась стенами комната, и ты во тьме.
Несмешное это дело, надо сказать. Если в обморок резко падаешь, можно о стол головой грохнуться. Убиться даже вполне возможно.
Но я почему-то плавно вырубался. Как будто тебя в воронку какую засасывает, и ты, вокруг своей оси вращаясь, опускаешься куда-нибудь вниз. Например, на пол.
Чаще всего я на полу и приходил в себя. Очнешься, перед глазами что-то знакомое, охровое. Это у нас пол так покрашен. Угарный газ наверху плавает, вместе с теплом к потолку поднимается. А у самого-то пола его нет. Или мало. А пол — холодный, порой и вовсе ледяной. Ну вот, полежишь на холодном полу туманной своей, обморочной головушкой, отдышишься от вражьего газа, который тебя внизу-то достать не может, ну и на карачках ползешь к выходу, дверь нараспашку откроешь, накинув пальтецо, сам выйдешь отдышаться, посидеть на холоду, пока кружение всего вокруг стоящего не остановится. Потом идешь в дом, прежде всего снова стул приставляешь, тянешь задвижку на себя, открываешь выход зловредному газу в трубу.
В общем, вместо того чтобы дом натопить, нагреть к маминому приходу, выветриваешь его до холода. А потом на кровать заляжешь и засыпаешь.
Просыпаешься от маминого восклицания:
— Опять!
Она бежит к тебе, не раздеваясь, не снимая пальто, и, постанывая, отворачивает колпачок с пузырька, где нашатырный спирт, подносит ватку, смоченную обильно, и меня этот резкий удар нашатыря в ноздри разом на ноги поднимает.
— Не надо! — кричу я.
А мама полусмеется, полуплачет:
— Ох ты, горе мое!
* * *
Так что врать не стану — в голодный обморок я не падал, мама этого не допускала, и в керосиновый, как неженка Правдина, — тоже, но, наверное ведь, все обмороки похожи. И я примерно понял, что испытала наша Анна Николаевна.
Не сразу понял только, почему же она голодала.
Дня через два пол-арифметики мы заглядывали друг дружке в рот. И трогали пальцами свои зубы — не шатаются ли.
Оказалось, что есть такая болезнь — цинга. Когда человек мало ест, а в еде его нет витаминов, приходит цинга. В голове позванивают колокольчики, ноги становятся легкими, а десны во рту начинают кровавить. Вот они для чего, витамины-то, нужны! Не будет витаминов, и все зубы выпадут, станешь в свои десять или одиннадцать лет беззубым стариком. Станешь шамкать и шепелявить.
Пожалуй, вот этим шамканьем нас Анна Николаевна до конца и убедила на сосну-то лезть. Кому охота шамкать и зубы терять?
— Мои витаминки кончились, дети! — сказала Анна Николаевна. — И все другое кончилось, до зарплаты далеко. А тем временем рядом с нами самый лучший витамин! Бесплатный! Висит себе, лапами нам машет.
Выяснялось, что самый крепкий витамин — в хвое, особенно сосновой. И во дворе школы растут несколько корявых сосенок, идти никуда не надо. После уроков забраться на деревья и наломать хвои.
Желающих отличиться было полно, да только не все мечты сбываются: ведь снизу-то сосна голая, и добраться до первых веток по голому стволу, широкому в обхвате, нам никак не удавалось. С помощью незаменимой Нюры и под мудрым командованием Анны Николаевны вытащили на волю лестницу, прижатую к стенке все в том же пахучем пространстве, где сходятся двери туалета, аромат керосинового бака и сквозняк от задней, плохо закрывавшейся двери, и, как муравьи, хором подтащили к дереву.
Полез за хвоей Вовка, мы держали лестницу — на всякий случай, — а девчонки подбирали сломанные ветки.
Анна Николаевна в тощем пальтеце с воротником из редкого, линялого меха, вполне, может быть, кошачьего, притопывала в туфельках на снегу, и казалось, не замечала уборщицы Нюры, которая в толстых валенках с калошами и плотной телогрейке стояла рядом и тревожно, даже, кажется, со страхом, поглядывала на хиловатую старушку, зачем-то вышедшую командовать.