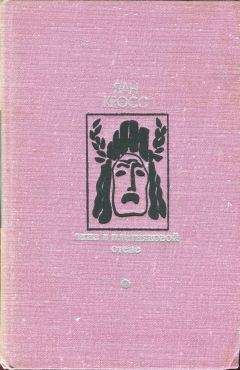И тогда мы поговорим о шедевре. Я вежливо скажу им, что хочу сделать его из дерева. Пораженные, они уставятся на меня. Потому что, если бы это была картина, они почувствовали бы себя значительно хуже, и они знают, что мне это известно. «А почему из дерева?» — спросят они. В своей извечной подозрительности они зажмурят глаза, и их тонкие губы станут как лезвие бритвы, а одеревенелые лапы с толстыми ногтями и застарелыми следами от долота на всякий случай сожмутся в кулак. А я посмотрю на них широко раскрытыми глазами и скажу: Потому, достопочтенные мастера, что, как мне доподлинно известно, мастера сего города сильнее всего в искусстве ваяния, а мое умение в этом самое слабое. И я нисколечко не солгу. Хотя, правда, несколько нарушу пропорции. Или точнее: я им скажу что-нибудь такое, под воздействием чего они исказят эти пропорции в своих мыслях. Ну так что ж с того! Такая самозащита должна быть мне дозволена. Во имя моей голубки и этого серого Таллина, во имя всего, что мне дорого.
И когда мы столкуемся на том, что нужно брать дуб, я смиренно выражу желание делать или деву Марию, или святую Веронику. В выборе дерева они уже пошли мне навстречу (не ради меня, конечно), и на этом их любезность будет исчерпана. Они затрясут своими головами с тяжелыми подбородками и скажут: нет! пусть это будет все-таки святой Георгий. Quod erat demonstrandum[22]. Потому что, честно говоря, мне только что пришли в голову кое-какие мысли именно о святом Георгии. Да, несколько минут назад, когда я смотрел, как мой дорогой старшина шел там, тяжело ступая.
Смешно! Я-то от всего этого только смеюсь. А мою голубку оно печалит. Ведь именно это ее и мучило. Теперь-то наконец я понял. А странно, что это огорчает не только ее одну. У Хинрика тоже было лицо, как кладбищенские ворота. Когда он выпил со мной кубок до дна перед тем, как я ушел… Будто от этого похода меня убудет… Дураки, сами они — граждане свободного ганзейского города и ужасно гордятся тем, что у них на шее не сидят короли… А я-то ведь пятнадцать лет кланялся королям — что, видимо, по их мнению, естественно. А вот поклониться их собственным цеховым мастерам — это обидное унижение… Пфф… — Позвольте спросить, в чем здесь разница? О, я должен признаться, иногда ради развлечения, я спрашивал своего католического короля Фердинанда, какого цвета сделать кисти у подушки для его ног, лиловыми или зелеными, и наблюдал, как он обдумывает этот государственной важности вопрос… Причем, отвечая на такой вопрос, после основательного размышления, он неизменно называл первое или второе и ни разу не сказал: решай сам. И никогда не придумал ничего третьего. Этим, по-моему, определяется мерз королевского мышления… Конечно, вовсе не обязательно всем королевским особам быть дубинами в делах искусства, Изабелла, например, такой не была (я думаю в первую очередь о матери). Но в остальном она была настоящая змея. И тем не менее я выдержал при ней одиннадцать лет. А за глаза она называла меня — как это… удивительно способным мальчиком для выходца из ремесленного сословия. И если и от этого меня нисколько не убыло, то почему бы, собственно, мне не быть до известной степени почтительным к супругам таллинских мастеров? От них, конечно, так хорошо не пахнет. Их ограниченность грубее. Они не восклицают по-итальянски: О Dio mio![23] — что звучит как королевская песня иволги. О статуях и картинах они знают меньше, чем Изабелла. Но зато они и не рассуждают об искусстве. Они не придут обучать меня сочетанию тонов с belleza и grandeza[24]. Их старики-то, конечно, придут… Но почему бы мне не выслушать их почтительно и не поблагодарить за поучительные слова? Если уж я выслушивал все разговоры Фердинанда и Хуана, и Генриха VII, и моего храброго герцога Филиппа и благодарил их за благосклонность? Иисусе Христе — чтобы это воспринимать трагически, нужно относиться к этому всерьез… а меня все это только смешит!
(Погодите-ка, что это за толпа идет оттуда, вверх по улице Пикк? Правильно, они возвращаются после полуденной мессы из Олевисте. Видишь, вон бюргеры солидные и более молодые, папы с сыночками, все в бархатных беретах, коротких плащах со сборами и меховыми воротниками, а госпожи бюргерши с великолепными пышными прическами и в длинных накидках. И доченьки их с пылающими щечками, они ходили для того, чтобы в тени святых статуй на парней поглядеть и себя показать. Теперь вот несколько стариков отделяются, поворачивают налево и входят в дверь гильдии Канута. Отсюда слишком далеко, чтобы я мог их узнать, но несомненно это те самые, к которым я как раз иду…)
А по поводу святого Георгия мне в самом деле пришла мысль… каким я его для них сделаю… Не всадником, как его часто изображали. Каким его сделал и Нотке для Большой церкви в Стокгольме. Нет. Я не буду возиться с лошадью. Лошадь — это только так, для красоты, или по привычке. Я поставлю святого Георгия во весь рост прямо на спину дракона[25] и сделаю его не блаженно-благоговейным, потусторонним, не небесным и святым, как его делали раньше, да и теперь, впрочем, часто делают. И не таким, чтобы он разламывался от внутренней силы, от напряжения мускулов, каким его, вероятно, сделали бы древние греки. У меня он должен быть совсем спокойным, совсем земным, осмелюсь сказать моим. И вот что, я дам ему свое собственное лицо. Узкое, несколько угловатое, немного горькое, чуть веселое и капельку печальное. Скуластое, слегка недоверчивое лицо крестьянина, которое я унаследовал от матери[26] — мое лицо. Я дам ему такие же каштановые, вьющиеся волосы и короткую, вызывающую прическу придворного общества Вальядолида. О, я вижу его уже совершенно ясно… Он стоит на спине дракона, опираясь на копье. Но копье в его руке — это не тонкий, как ниточка, луч, который должен символизировать силу духа. (Множество святых Георгиев я видел с таким копьем.) Однако его копье не должно быть и настоящим копьем, каким разят врага. Копье должно у меня, то есть, я хотел сказать, у святого Георгия, напоминать скорее просто посох, которым он на ходу придавил дракона. Я мог бы это копье, то есть, я хотел сказать, святой Георгий мог бы это копье держать даже в левой руке, настолько походя, невзначай он придавил дракона. В этой легкости была бы известная нарочитость, но нарочитость во имя того, чтобы собрать в себе дерзость и внушить ее другим, в конце концов, эта нарочитость — во имя превосходства небесных сил… Конечно, острие копья пронзает спину дракона, только вот глубоко или не очень — бог его знает… да и какое это имеет значение, если дракон все равно продолжает жить, если его снова и снова приходится пронзать копьем, всегда и повсюду… А правую руку я, то есть я хотел сказать, святой Георгий, поднял, чтобы защитить глаза от солнца. Потому что дракон уже настолько раздавлен, что через него можно перешагнуть, и святой Георгий больше не думает о драконе, а смотрит вдаль… (Ей-богу, как красива эта улица сейчас! Эта булыжная мостовая будто река, по которой катятся круглые, каменные волны. Эти крылечки из светло-серого плитняка с гербами и каменными скамьями. Двери, как порталы игрушечных церквей, с маленькими утопленными каменными колоннами, которые напоминают трубы органа. Серые стены! А над ними дождь осенних листьев. Ряды островерхих красных крыш. Пестрая зелень башни Олевисте. Густые облака, как синеватый, тающий снег. Солнце, которое своим копьем пронзает облака… Написать эту улицу… и впереди лицо моей голубки. Совсем близко. Так близко, чтобы можно было поцеловать.)
Да, я знаю, каким я сделаю дракона. Он вовсе не будет чрезмерно страшным. У него вообще не будет ни крыльев летучей мыши, ни морды крокодила. Но он не должен быть ни достойным жалости, ни смешным, ни могучим, как дьявол, ни жалким, как скотина. А такой силы, какая бывает у среднего быка. И размером — как бык корриды. Во всяком случае, таким, чтобы его пришлось принимать всерьез. Животом или грудью он лежит на земле, а задницей кверху. Голова как у пса. Как у злой, немного испуганной дворняжки. Сзади, как у Левиафана, лапы в разные стороны… Как будто в широких, немного стоптанных тупоносых сапогах… Кстати, левый бок и левую половину головы (включая глаз) не стоит доводить до конца. Фигура ведь будет установлена так, что ее левая сторона останется обращенной к стене. Но если я ее сейчас поверну и посмотрю на нее сзади, я увижу дракона на толстых задних лапах и с невероятно широкой голой задницей. Вот что я решил: в середине ее я с особым удовольствием сделаю великолепную круглую дыру… Зачем? И сам не знаю. Но сделаю. Просто так. Может быть, с тайной мыслью, чтобы она была моим тавро…
Ага, вот старшина уже входит в дверь гильдии Канута. А идущие от мессы проходят мимо меня, стуча сапогами и шурша одеждой, я слышу обрывки разговоров и запахи мускуса и хвойного мыла. И снова передо мной улица с отчетливо различимыми контурами.
Я так в нее всматриваюсь, что начинают болеть глаза. Я хочу навсегда ее запомнить. Я хочу ее написать. И на ее фоне мою голубку — мою жену. Это будет первая картина большой серии. Ее никто не заказывал. Это не важно. Я еще не знаю, как эти картины будут называться: святая Цецилия, святая Катарина, святая Бригитта, святая Моника. Это не важно.