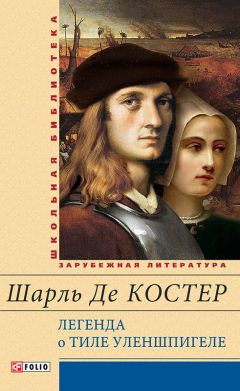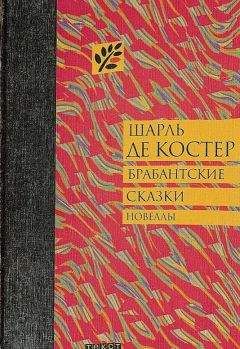И принц страдал: ибо злое сердце – это мучение.
Юная красавица покинула Вальядолид и отправилась в свой замок Дюдзееле во Фландрии.
Проезжая в сопровождении своего толстого управляющего через город Дамме, она увидела юношу лет пятнадцати, который, сидя у стены маленького домика, играл на волынке. Перед ним стоял рыжий пёс и жалобно выл, очевидно, не одобряя этой музыки. Солнце светило ярко. Подле юноши стояла хорошенькая девушка, которая громко хохотала при каждом завывании унылой собаки.
Проезжая мимо домика, прекрасная дама со своим толстым управляющим увидела, как дудит на волынке Уленшпигель, хохочет Неле и воет Титус Бибулус Шнуффиус.
– Злой мальчишка, – сказала дама, – зачем ты доводишь бедного пса до такого воя?
Но Уленшпигель, услышав это, загудел ещё громче, Бибулус завыл ещё жалостнее, Неле хохотала ещё веселее.
Управляющий пришёл в бешенство и, показывая на Уленшпигеля, предложил даме:
– А не оттрепать ли мне эту дрянь ножнами моей шпаги? Может быть, он тогда прекратит свой непристойный визг?
Уленшпигель взглянул на управляющего, пробормотал: – Молчи, толстопузый! – и продолжал играть. Управляющий подошёл к нему и пригрозил кулаком. Но Титус Бибулус бросился на него и схватил за ногу. Управляющий упал на землю и заорал:
– Спасите!
Дама засмеялась и спросила Уленшпигеля:
– Скажи, дудочник, не знаешь ли ты, дорога из Дамме в Дюдзееле всё та же, что и прежде?
Уленшпигель утвердительно кивнул головой, но продолжал играть, не отрывая глаз от дамы.
– Что это ты так уставился на меня? – спросила она.
Но он только шире раскрыл свои глаза, как бы в восторге и изумлении.
– Не стыдно тебе в твои годы так смотреть на даму? – спросила она.
Уленшпигель слегка покраснел и, не переставая играть, всё смотрел на неё.
– Я спрашивала тебя, не изменилась ли дорога из Дамме в Дюдзееле? – повторила она.
– Она потеряла свою зелень с тех пор, как вы лишили её возможности носить вас на себе, – ответил Уленшпигель.
– Может быть, проводишь меня? – спросила она.
Но Уленшпигель продолжал сидеть, не отрывая от неё взгляда. И она не сердилась: ей нравилось, что он такой молодой и, видно, продувной. А он встал и направился к дому.
– Куда ж ты? – спросила она.
– Принарядиться, – ответил он.
– Иди, – сказала она.
Она села на скамейку у входа, и управляющий рядом с ней. Она хотела поболтать с Неле, но Неле не отвечала ей: Неле ревновала.
Уленшпигель вернулся вымытый, в плисовой куртке. В своём воскресном наряде этот шельмец выглядел весьма недурно.
– Ты в самом деле пойдёшь с этой красивой дамой? – спросила Неле.
– Я сейчас вернусь, – ответил Уленшпигель.
– А не пойти ли мне вместо тебя? – предложила Неле.
– Нет, очень грязно на дороге.
– Почему, – спросила дама гневно и тоже ревниво, – почему ты, девочка, хочешь помешать ему пойти со мной?
Неле ничего не ответила, но крупные слёзы показались в её глазах, и она сердито и тоскливо посмотрела на даму.
Они отправились вчетвером: дама, точно королева, сидевшая на своём белом коне, покрытом чёрной бархатной попоной, управляющий, толстое брюхо которого вздрагивало при каждом шаге, Уленшпигель, который вёл белого коня под уздцы, и рядом с ним Титус Бибулус с гордо поднятым хвостом.
Так ехали и шествовали они некоторое время. Но Уленшпигелю было не по себе. Безмолвный, как рыба, он вдыхал еле уловимый запах бензоя, шедший от дамы, и бросал украдкой взгляды на сбрую с металлическим убором, на драгоценные украшения, а также на нежное лицо, открытую грудь, блестящие глаза и волосы, сверкавшие на солнце, точно золотой чепец.
– Почему ты всё молчишь, мальчик? – спросила она.
Он ничего не ответил.
– Не так уж ты косноязычен, чтобы не выполнить поручение?
– Смотря какое, – сказал он.
– Отсюда я поеду одна, а ты пойдёшь обратно, знаешь, в Коолькерке, и там передашь от меня одному господину в чёрно-красной одежде, чтобы он не ждал меня сегодня, а в воскресенье в десять часов вечера пришёл бы ко мне в замок через потайной ход.
– Не пойду! – сказал Уленшпигель.
– Почему?
– Не пойду! – повторил он.
– Чего ты взбесился, петушок сердитый?
– Не пойду! – твердил Уленшпигель.
– А если я заплачу тебе флорин?
– Нет.
– Дукат?
– Нет.
– Червонец?
– Нет, – повторил он. – Хотя, – прибавил он, – на такие вещи я смотрю много охотнее, чем на ракушки в кошеле матери.
Дама засмеялась и вдруг закричала:
– Я потеряла мою дорогую, парчовую сумку, вышитую жемчугом! Ещё в Дамме она висела у меня на поясе.
Уленшпигель не шевельнулся, управляющий же всполошился:
– Сударыня, не посылайте этого проходимца, а то вы никогда не увидите своей сумки.
– Кто же пойдёт за ней? – спросила она.
– Придётся мне не пожалеть своей старости.
И он поспешил обратно.
Полудённая жара была невыносима, кругом было безлюдно. Уленшпигель снял безмолвно свою праздничную куртку и расстелил её в тени ивы, чтобы дама могла сесть, не боясь сырой травы. И он стоял подле неё, вздыхая.
Она взглянула на него и почувствовала жалость к робкому мальчику. Поэтому она спросила его, не устал ли он стоять на своих молодых ногах. Он не сказал ни слова, и когда он стал падать подле неё, она поддержала его, привлекла к своей обнажённой груди, и там он остался с такой радостью, что ей показалось бесчеловечным приказать ему искать себе другое изголовье.
Между тем возвратился управляющий с известием, что нигде не мог найти сумки.
– Да вот она, – ответила дама, – я нашла её, сходя с коня: падая, она зацепилась за стремя. А теперь, – обратилась она к Уленшпигелю, – веди нас прямо в Дюдзееле и скажи мне, как тебя зовут.
– Я ношу имя святого Тильберта, и имя это значит: быстрый в погоне за прекрасными вещами; отца моего зовут Клаас, по прозвищу я Уленшпигель, то есть ваше зеркало. Если вы, ваша милость, взглянете в это зеркало, вы увидите, что во всей Фландрии нет цветка, равного прелестью вашей благоуханной красоте.
Дама покраснела от удовольствия и не рассердилась на Уленшпигеля.
А Сооткин и Неле проплакали всё время его долгого отсутствия.
Вернувшись из Дюдзееле, Уленшпигель при входе в город прежде всего увидел Неле. Прислонившись к стене, она общипывала гроздь чёрного винограда, и ягоды, конечно, освежали и услаждали её, но это удовольствие не проявлялось ни в чём. Наоборот, она, видимо, была не в духе и сердито отрывала одну виноградину за другой. Так явно было её страдание, и на лице её написана была такая забота и печаль, что Уленшпигель, охваченный ласковым состраданием, приблизился к ней сзади и нежно поцеловал её в шею.
Но в ответ он получил яростную оплеуху.
– И всё-таки я ничего не понимаю, – сказал Уленшпигель.
Она залилась слезами.
– Хочешь изобразить фонтан у городской заставы, Неле? – сказал он.
– Убирайся! – вскрикнула она.
– Не могу убраться, пока ты так плачешь, девочка!
– Я не девочка, и я не плачу.
– О нет, ты не плачешь, – только вода льётся из твоих глаз.
– Уйди от меня.
– Не уйду.
И дрожащими руками она теребила мокрый передник, по которому градом катились слёзы.
– Неле, – спросил Уленшпигель, – погода скоро переменится?
И он с нежной улыбкой смотрел на неё.
– Не всё ли тебе равно?
– Значит, не всё равно: в хорошую погоду нет дождя.
– Убирайся к барыне в парче, ей с тобой весело.
На это он запел:
Плачет милая моя –
Рвётся сердце у меня.
Смех у милой – мёда слаще,
Слёзы – жемчуг настоящий.
Я её люблю всегда…
Подавай вина сюда,
Чтобы кружки зазвенели!
Лучшего вина сюда –
Только б улыбнулась Неле…
– Скверный человек, – сказала она, – ты ещё смеёшься надо мной!
– Неле, – ответил он, – человек, но не скверный: наш почтенный род, род старшин, имеет в гербе три серебряных кружки на пивном фоне. Скажи, Неле, неужто так заведено во Фландрии, что когда сеют поцелуи, пожинают оплеухи?
– Я не хочу с тобой разговаривать.
– Однако открываешь рот, чтоб сказать мне это.
– Я зла, зла, зла на тебя!
Уленшпигель легонько толкнул её в бок и сказал:
– Целуешь злючку – она дерётся, побьёшь её – она сдаётся. Ну, сдавайся, девочка, я ведь побил тебя.
Неле обернулась. Он протянул руки, она бросилась ему на шею, всхлипывая:
– Ты туда больше не пойдёшь, Тиль?
Но он не отвечал, так как был занят: он сжимал её бледные дрожащие пальчики и старался губами осушить горячие слёзы, которые крупными каплями проливного дождя лились из глаз Неле.
В эти дни благородный Гент отказался платить свою долю подати, наложенной на него его сыном императором Карлом. Город был уже совершенно разорён Карлом и платить не мог. Это было тяжкое преступление, и Карл решил собственноручно наказать его.