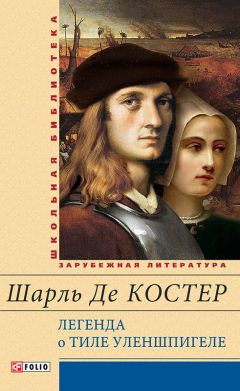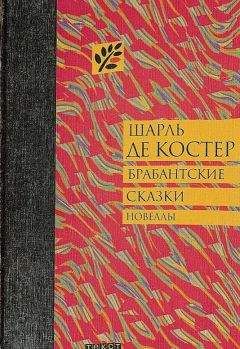– Я не хочу с тобой разговаривать.
– Однако открываешь рот, чтоб сказать мне это.
– Я зла, зла, зла на тебя!
Уленшпигель легонько толкнул её в бок и сказал:
– Целуешь злючку – она дерётся, побьёшь её – она сдаётся. Ну, сдавайся, девочка, я ведь побил тебя.
Неле обернулась. Он протянул руки, она бросилась ему на шею, всхлипывая:
– Ты туда больше не пойдёшь, Тиль?
Но он не отвечал, так как был занят: он сжимал её бледные дрожащие пальчики и старался губами осушить горячие слёзы, которые крупными каплями проливного дождя лились из глаз Неле.
В эти дни благородный Гент отказался платить свою долю подати, наложенной на него его сыном императором Карлом. Город был уже совершенно разорён Карлом и платить не мог. Это было тяжкое преступление, и Карл решил собственноручно наказать его.
Ибо сыновний бич больнее спине матери, чем всякий иной.
Враг Карла, Франциск Длинноносый, предложил ему двинуться через Францию. Карл принял предложение, и его приветствовали и окружили царскими почестями, вместо того чтобы заточить в тюрьму. Между государями всегда царит согласие, когда им надо поддержать друг друга в борьбе против их народов.
Карл долго оставался в Валансьене, не показывая своего гнева. Город Гент жил беззаботно, в спокойной надежде, что император, сын его, простит своей родине то, что она поступила по праву и по закону.
Карл с четырьмя тысячами всадников явился под стены города. С ним был Альба, а также принц Оранский. Простой народ и ремесленники хотели воспротивиться этому сыновнему посещению и навербовали для этой цели восемьдесят тысяч горожан и крестьян. Но зажиревшие купцы, называемые hoogh-poorters, воспротивились, боясь, что, в случае успеха, простой народ получит слишком много прав. Город Гент, вооружив население, мог бы искрошить своего сына и его четыре тысячи всадников. Но город любил его, и даже к ремесленникам вновь вернулись надежды.
Карл тоже любил Гент, но только за те деньги, которые он, получив от него, держал в сундуках и которых ему всегда было мало. Овладев Гентом, он расставил повсюду часовых; дозоры день и ночь обходили город. Затем с большой торжественностью он объявил свой приговор.
Знатнейшие граждане обязаны были с верёвкой на шее явиться пред его престолом и публично принести повинную. Гент был обвинён в самых доходных для государевой казны преступлениях: в измене, непокорности, вероломстве, восстании, мятеже, оскорблении величества. Император объявил недействительными все права и льготы, вольности и обычаи города Гента и, подобно Господу Богу, предрёк будущее: отныне его преемники при вступлении на престол будут давать клятву соблюдать ту «привилегию рабства», которую он отныне дарует городу в «Concession Carolina» – в «пожаловании Карла».
Он разрушил Сен-Бавонское аббатство, чтобы воздвигнуть на его месте крепость, откуда он при желании мог бы с удобством пронизать чрево своей матери ядрами.
Как любящий сын, который спешит завладеть наследством, он конфисковал всё имущество и доходы Гента, дома, оружие, пушки и военные припасы.
Найдя, что город слишком хорошо защищен, он срыл все укрепления: Красную Башню, Жабью Дыру, городские ворота – Брампоорт, Стинпоорт, Ваальпоорт, Кетельпоорт и многие другие, украшенные изваяниями и тонкой художественной резьбой.
Когда впоследствии в Гент попадали иностранцы, они с удивлением спрашивали друг друга:
– Что же это за чудеса рассказывали об этом городе. Он такой обыкновенный и скучный.
И гентские граждане отвечали:
– Император Карл недавно снял с города его драгоценный пояс. – И, отвечая так, они были исполнены гнева и стыда. Из развалин городских башен и стен император взял кирпичи для постройки своей крепости.
Он хотел дотла разорить Гент, чтобы трудолюбие, промышленность и богатство города не препятствовали его горделивым замыслам. Поэтому он обязал город уплатить невнесенную дань в четыреста тысяч флоринов и, кроме того, уплатить сто шестьдесят тысяч дукатов, а затем ещё навечно ежегодно платить налог в шесть тысяч. Гент дал ему некогда денег взаймы, и он должен был выплачивать городу ежегодно сто пятьдесят фунтов серебра. Он отобрал свои долговые обязательства. Расплачиваясь с долгами таким образом, он быстро обогатился. Гент любил его и не раз поддерживал его, но он глубже вонзал кинжал в грудь и пил его кровь, ибо там оказалось недостаточно молока.
Потом Роланд, прекрасный колокол, обратил на себя его внимание; и он приказал повесить на его языке того, кто забил в набат, призывая город к защите своих прав. Он не сжалился над Роландом, языком своей матери, над языком, взывавшим к Фландрии, над Роландом, гордым колоколом, который сам о себе говорил:
Als men my slaet dan is’t brandt,
Als men my luyt dan is’t storm in Vlaenderlandt.
Слышен гулкий удар – значит, вспыхнул пожар.
Мой набат начинает бить – во Фландрии буре быть.
И, найдя, что язык его матери говорит слишком громко, Карл снял колокол. И люди в округе говорили, что Гент умер потому, что сын его железными клещами вырвал у города язык.
Стояли свежие, солнечные весенние дни, когда природа исполнена томления любви. Сооткин болтала с кем-то у открытого окна, Клаас мурлыкал песенку, а Уленшпигель смастерил судейскую шапочку и надел её на Титуса. Пёс важно поднимал лапу, точно изрекая приговор, но делал это только для того, чтобы избавиться от шапочки.
Вдруг Уленшпигель захлопнул окно, заметался по комнате, вскакивая на столы и стулья, и шарил руками по потолку. Сооткин и Клаас увидели, что он хочет поймать прелестную маленькую птичку, которая пищала, вся дрожа от ужаса, и прижалась в углу к потолочной балке.
Только Уленшпигель хотел схватить её, как Клаас сказал ему:
– Чего ты мечешься?
– Хочу поймать её, – ответил Уленшпигель, – посадить в клетку, кормить её зерном и слушать, как она будет петь.
Птичка опять вспорхнула с жалобным писком и, проносясь из угла в угол, билась головой о стёкла.
Уленшпигель всё прыгал за нею, но Клаас опустил свою тяжёлую руку на его плечо и сказал:
– Ты поймай её и посади в клетку, чтобы она для тебя пела. А я посажу тебя в клетку, запертую доброй железной решёткой, и тоже заставлю тебя петь. Ты любишь бегать, да нельзя будет; ты будешь сидеть в тени, когда тебе будет холодно, и на солнце, когда тебе станет жарко. А то как-нибудь в воскресенье мы уйдём, забыв дать тебе поесть, и вернёмся только в четверг, и, когда придём домой, то найдём Тиля умершим от голода, холодным и неподвижным.
Сооткин заплакала. Уленшпигель вскочил.
– Что ты делаешь? – спросил Клаас.
– Отворяю для неё окно, – ответил Уленшпигель.
И щеглёнок порхнул к окну, радостно пискнул, поднялся стрелою вверх, потом уселся на соседнюю яблоню, чистя перышки и осыпая на своём птичьем языке яростными ругательствами Уленшпигеля.
И Клаас сказал:
– Сын мой, никогда не лишай человека или животное свободы, величайшего блага на земле. Не мешай никому греться на солнце, когда ему холодно, и прохлаждаться в тени, когда ему жарко. И пусть Господь судит его величество, императора Карла, который сначала заковал в цепи свободную веру во Фландрии, а теперь хочет заключить в клетку рабства благородный Гент.
Филипп женился на Марии Португальской, земли которой присоединил к испанской державе. От неё родился дон Карлос, злой безумец. Филипп не любил свою жену!
Королева болела после тяжёлых родов. Она лежала в постели, окружённая придворными дамами, среди которых была герцогиня Альба.
Филипп часто покидал жену, чтобы присутствовать при сожжении еретиков. Все дамы и кавалеры его двора следовали его примеру, – в том числе и герцогиня Альба, благородная сиделка при королеве.
Инквизиция осудила в это время одного фламандского скульптора, католика: один монах заказал ему вырезать из дерева изваяние Божьей Матери и не заплатил ему, сколько было условлено; тогда художник искромсал резцом лицо статуи, ибо, сказал он, лучше он уничтожит свою работу, чем отдаст её за позорную цену.
Обвинённый по доносу монаха в кощунстве, он был подвергнут бесчеловечной пытке и присуждён к сожжению.
Во время пытки ему сожгли подошвы ног, и по пути от тюрьмы к костру, покрытый san-benito, он всё время кричал:
– Отрубите ноги! Отрубите ноги!
И Филипп издали с наслаждением слушал эти исступлённые крики. Но он не смеялся.
Придворные дамы королевы Марии покинули её, чтобы видеть казнь, и вслед за ними побежала герцогиня Альба, ибо и она хотела слышать крики фламандского художника и наслаждаться зрелищем казни. И королева осталась одна.
Филипп и весь его двор, его князья и графы, кавалеры и дамы, все смотрели, как фламандского скульптора приковали к столбу, окружённому на некотором расстоянии пучками соломы и связками хвороста, длинной цепью, так что осуждённый мог держаться подальше от наиболее жаркого пламени и, таким образом, жариться на медленном огне.