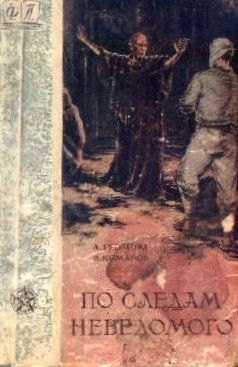Наскоро допиваем чай. Наскоро отделываемся от бабьих жалоб. Наскоро ругаемся с мужиками, требующими за овёс и сено.
Вестовые подают лошадей.
— На коней!
Железные шершни не оставляют нас в покое ни на минуту. Сзади отчётливо доносится ружейная и пулемётная стрельба: немцы преследуют нас по пятам.
С утра бурлит гигантский поток. Кажется, так будет вечно. Вечно будут скрипеть колеса, и вечно будут расти и катиться эти глыбы человеческого тряпья и горя.
По-прежнему треплются на возах мужичьи портки и бабьи кофты, рубахи, ведра, подойники, фонари. Но уже нет ни свиней, ни птицы. И число детишек так заметно убывает. Зато растут ежедневно могилки по краям дороги. Сегодня я насчитал их сто семнадцать!
Резко бросается в глаза, с какой потрясающей быстротой изнашивается и отмирает по частям это исполинское тело, составленное из трёх губерний, вытянувшихся воз за возом на протяжении сотен и сотен вёрст. Как хорошо бы впрячь в это шествие вшивых и «обеженных» всех думских трубадуров, так упоительно рассыпающих свои пылкие клятвы — «война до победного концам.
Картуз-Берёза. У местечка вид как после погрома. Жители поспешно укладываются и собираются перейти на положение беженцев. Местечко наполнено паническими россказнями о цеппелинах, обстрелах и тысячах жертв по дороге. Приютились в церковно-приходской школе. Сам учитель давно на войне. Его жена с двумя детьми, из коих старшему пятый год, пошла пешком до ближайшей станции — за 52 версты от Картуз-Берёзы. Дома осталась какая-то старая бабка, которая сидит без движения на пороге, смотрит на устало шатающихся и безучастно шамкает полумёртвым беззубым ртом:
— Кажетшя, шкоро вшя Рошия окажетшя беш приштаниша... Жители совершенно не разговаривают с нами. Только изредка услышишь безнадёжную жалобу:
— Маимся, доки не подохнем...
Допытываюсь у жителей, отчего у местечка такой разорванный вид. Угрюмо молчат. Наконец узнаю, что по ночам беженцы, вооружённые толстыми дубинами, нападают на все лежащие по пути деревни, села, местечки и отбирают у жителей все — до последнего клочка сена. Сегодня ночью в Картуз-Берёзе и в деревне Заречье — в трёх верстах к востоку от местечка — произошло форменное сражение, во время которого двум жителям раскроили дубинами черепа.
— А солдаты? — спрашиваю я. — Надо было жаловаться солдатам..
— Солдаты все с бабами заодно, — мрачно заявляют жители. — Бабы им пузо греют...
* * *
Сеет мелкий осенний дождь. Дует резкий холодный ветер. Гнилые топи дышат белым туманом. Дорога раскисла и вся усеяна павшими клячами. Воющий ветер заглушает грохот колёс и шуршание босых ног и раздувает людскую злобу.
— Но-но! Вправо, чёртова шкура, чего стал!
— Не напирай! Расколеси твою душу!..
И солдатские кнуты свирепым градом обрушиваются на спины беженцам.
— Не пхай!!! — пробуют огрызаться смельчаки, не сворачивая с дороги.
— Драться хочешь, поляцкая стерва! — грозно хватается за винтовку солдат. И через минуту дерзкий ослушник валяется окровавленный под ногами.
Беженцы в панике. Из уст в уста передаётся о вчерашнем налёте на Картуз-Берёзу. Говорят, погибла масса «погоньцев» и человек двести попались в плен.
— И слава Богу, — говорит какой-то дряхлый старик. — Кабы нас силом не заставили, разве пошли бы мы? Вот! — показывает он безнадёжным жестом на свою приставшую клячу и с ожесточением начинает хлестать её по голове и глазам. Потом бормочет, качая старческой головой: — Так оно все кончится. Сперва корова, потом гуси, потом дети. Теперь конь. А за ним и я со старухой. Пропадём. Все до одного сгинем. Один конец...
Сеет печальный дождик. Рядом со мной шагает длинный Пухов и сочувственно вздыхает:
— Времена какие пришли: со своего дому уходи... Да идти-то некуда. Голы, босы, последнюю коровёнку съели. Загонят в другую деревню — тех объедят... Как ни крепись — мириться надо. Против немца не устоим. До Урала гнать будет.
На возах у беженцев много холерных.
К вечеру на стоянке сносят всех умерших и хоронят их рядышком. Ставят на могилах невысокие кресты и украшают их лентами, цветами и алой рябиной. Гробов не делают, а стены могилы внутри выстилают кольями и еловыми ветвями. Хоронят без слез, без причитаний. Только матери, видал я, отходят в сторону и тихо всхлипывают.
* * *
Чемелы — большая белорусская деревня, населённая «оперными» мужиками, обутыми в лапти, одетыми в просторные сивые зипуны и носящими широкие бороды лопатой. Живут чемельские мужики в низких избах с закоптелыми потолковыми балками, под соломенной крышей. Избы тесные, грязные, набитые детьми, тараканами и куриным помётом. Бабы в цветных сарафанах, со странными коробами за спиной. С виду тихие, молчаливые. Попик старенький. Кресты на могилах восьмиконечные (старообрядческие). На каждой могилке деревянная плита в виде пчелиной колоды.
Из сада за домом доносятся шумные голоса. Несколько десятков дружинников сбивают палками незрелые груши. Хозяин нашего помещения, седой старик в белой свитке, похожий на оперного Сусанина, убеждает ласковым голосом:
— Что мне жалко гетого дерма, что ли? Сказано нельзя: захвораешь.
— От груши захвораешь?! — весело смеются дружинники и продолжают трясти деревья.
— Уходи, говорю тебе! — уже более грозно требует старик.
— Мы не твоей губернии, — отшучиваются дружинники.
— Что из того, что «не твоей губернии»? Не одного мы царя?
— И царя мы другого, — весело отбиваются солдаты.
— А правда гето? — с любопытством вдруг впивается в них старик. — Правда, што другого царя поставить хотят?
И корявыми словами он рисует какую-то смутную мечту, созданную за эти чёрные дни в согбенных избах Полесья:
— ...Рост у него царский, хочь роду ен мужицкого. Только худой-худой. И чаго он такой худой? Видно, заботы много. Иссушает забота. Строгий. Восемьдесят охфицеров в кандалы заковал. За то, что они неправильно отступили. Как посылали на войну наше войско, казаки стали просить: «Позволь нам с унутренним врагом распрощаться». «Нельзя, — говорит. — Внутре все должно быть в мире». А казаки своё: «Позволь с немцем унутренним распрощаться». Закричал: «Сказано раз — не позволю!.. А отчего вы с ними распрощаться хотите?» — «За то, что они, купцы да мошенники, полтинник бярут за вещь, которой цана вся — пятиалтынный». — «Понапрасну думаете. Я таперь каждой вещи свою цану положил...»
* * *
Выступили в половине четвёртого, на рассвете. Дождь льёт как из ведра. Холодно и тоскливо. Едем угрюмые и злые. На душе гнетущее отупение. Кажется, и я, и солдаты, и голодные беженцы давно потеряли все человеческие чувства и ко всему на свете относимся с мёртвым безразличием.
— Уже год болтаемся без дома, — мрачно заявляет штабс-капитан Калинин.
— А у этих, — говорит Болконский, указывая на беженцев, — никогда уже дома не будет. Девушки станут проститутками. Мужчины, кто выживет, будут грабить на большой дороге. Ничего другого не остаётся.
Нас нагоняет взволнованный беженец.
— Ой, паночку, — хватается он за стремя седла, — у жинки холера зробилась. Ратуйте, паночку!
— Мы ничего не можем сделать, — печально отвечает за меня Болконский. — Как увидишь на дороге червонный крест, вези её туда.
Потом он вынимает из кармана монету и протягивает её беженцу. И все мы, шесть человек, делаем то же. Беженец отрицательно мотает головой. И вдруг, потрясённый до глубины души, припадает губами к сапогу Болконского и трясётся в мучительных рыданиях.
Едем дальше. Считаем придорожные могилы. Вчера, когда мы подъезжали с Скорникам, не было ни одной. Сегодня тут целое кладбище: 49 крестов вытянулись длинной шеренгой за одну только ночь. В полуверсте от Скорников ещё 8. Дальше ещё 11. Потом — 17. Могилы, конские трупы, раздавленные собаки, дохлые свиньи, барахтающиеся в трясине коровы...
— Скоро и мертвецы под ногами валяться будут, — говорит Калинин.
— Поищите хорошенько в лесах — и сейчас найдёте, — отвечает Болконский. — Мало там слабосильных старух валяется?
Проезжаем мимо Огинского канала, близ станции Коссово. Минуем шлюзы на реке Шаре.
В начале двенадцатого делаем короткий привал в деревне Заборечье (Минской губернии), запрятанной в первобытных лесах. Население — белорусы. При входе в деревню высокая арка, увитая цветами и зеленью, с большим крестом наверху.
— Что это?
— Попа встречали.
Навстречу нам высыпало все село. Мужики в лаптях, в белых рубахах на выпуск из-под жилета. Бабы в высоких древнерусских кокошниках зеленого и красного цвета.
Избы курные, похожие внутри на пещеры, покрытые копотью и сажей. Спрашиваю хозяйку:
— Отчего труб не делаете?
— Денег нет. Мы бедные, — отвечает она.
— Дорого ли трубу поставить?
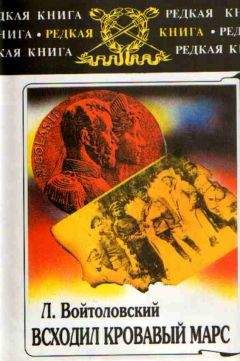

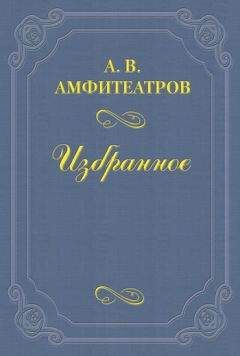
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)