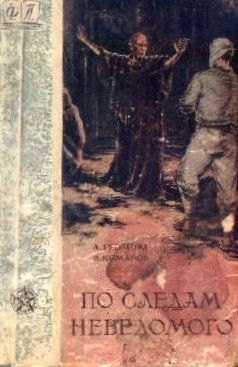— Почему вы думаете, что они должны быть?
— Нет, они сюда не пойдут, — горячо подхватывают патриотические рейтузы. — Не пойдут. А если придут, мы им хорошенько тыл пощипаем! Ведь я тут каждую кочку, каждый уголочек знаю. Собственно, скажу вам по совести, я здесь и сижу для того... Скажите, не купите ли вы у меня коров? Дёшево продам. Прекрасный племенной скот.
— Нет, у нас и без того скота девать некуда.
— Хоть парочку; великолепные дойные коровы. Кто у вас хозяйством заведует? Прапорщик Кириченко? Вот пойдёмте, я вам покажу. Кстати, на винокуренный завод заглянем. Там у меня вчера спирт выпускали в озеро. Но бочонок ещё остался. Могу вам поднести.
— Нет, нам не нужно.
— Как это не нужно? Спирт всегда нужен!.. А в Слуцке долго стоять не будут.
И опять последняя фраза звучит как-то сбивчиво и вероломно: не то вопрос, не то утверждение.
— Скажите, далеко отсюда до Слуцка? — спрашиваем мы.
— Семнадцать вёрст, — с апломбом отвечает корнет.
— Как — семнадцать? Давайте карту. Смотрите: по карте тридцать шесть вёрст. А ещё хвалитесь, что здешние места изучили!
— Да я, видите ли, давно здесь не бывал. Моя собственная собака не узнала меня и чуть не разорвала.
— А собираетесь немцев беспокоить. Они-то, пожалуй, ориентируются здесь лучше, чем вы в своём собственном саду... Кстати, не продадите ли фруктов?
— Это фрукты не мои. Я сдал сад в аренду.
— Где же ваш арендатор?
— Его нет. Он удрал отсюда.
— Тогда, значит, хозяина нет?
— Можете деньги... мне уплатить. Я ему передам.
— Как это вам удалось сохранить в целости не только деревья, но даже изгородь садовую? Ведь мимо вас проходят тысячи беженцев. А у вас кругом царит образцовый порядок, — выражаем мы своё удивление хозяину.
Он улыбнулся тяжёлой улыбкой.
— У меня этого не будет. Я для этого держу здесь двенадцать стражников и околоточного надзирателя.
По дороге в сад мы увидали и самих стражников. Они ходили вокруг усадьбы с винтовками за плечом и выглядели так же воинственно и гордо, как красные рейтузы на ляжках отставного гусара. Все — унтера из варшавской полиции. Тут же мы увидали впервые хозяйку — молодую польку, которая суетилась и бегала с ключами в руках и очень недружелюбно поглядывала то на нас, то на своего супруга.
...Едва мы уселись за обеденный стол, как услыхали нечеловеческие крики. Все бросились к сараю, откуда неслись эти вопли. Из сарая вышел наш гостеприимный хозяин с палкой в руке. Два стражника держали за руки молодого человека, который судорожно кричал:
— Я учитель, народный учитель!.. Как вы смеете?.. Он меня высек!..
— Понимаете, — заговорил развязно гусар. — Залез в сад за яблоками. Да ещё притащил с собой беженцев. Грабитель какой-то.
— Ну, знаете, сечь за яблоко... — нахмурился Базунов.
— Да они хуже саранчи. Помилуйте: позавчера стравили у меня клевера семь тысяч пудов!
— Это, однако, не оправдание, — проворчал Базунов и отвернулся.
Через полчаса к столу нашему подошёл, как ни в чем не бывало, пан Войнаровский. Он был навеселе. От него крепко разило спиртом и в руках была бутылка с жидкостью жёлтого цвета, которую он не без торжественности поставил на стол.
— К обеду!.. Превосходная вещь. С лимонной коркой. Если для вас крепко семьдесят градусов, можете разбавить. Для меня — как раз.
И тут же обратился в приятельском тоне к прапорщику Кириченко:
— Возьмите десяточек коров! Не пожалеете. А... счёт можете написать, какой вам угодно.
— Здорово, задави его гвоздь! — зло рассмеялся Кириченко. — Значит, будем надувать казну на артельных началах.
— В кавалерии это принято, — обиженно пожал плечами хозяин.
— А вас не секли за это? — спросил Болконский.
Но пан Войнаровский пропустил мимо ушей это замечание. Глаза его радостно улыбались свету и нам, и свет сиял в его масляных глазах.
— Не хотите ли посмотреть мой парк? — в том же дружелюбном тоне обратился он к нам. — Отличный английский парк. Только попрошу вас: поставьте там ваших часовых. А то ночью, наверное, это быдло заберётся и переломает мне все деревья.
— А вы, кажется, хотите передать ваше имение немцам в образцовом порядке? — усмехнулся Базунов. — Позвольте и беженцам попользоваться чем-нибудь. Ведь это тоже поляки, ваши кровные соплеменники.
* * *
Получено предписание: завтра на рассвете перейти в Слуцк. Когда я лежал в постели, ко мне наклонился Коновалов и шепнул:
— Як будуть ночью кричать, не выходьте...
Эта фраза застряла у меня в мозгу и не даёт мне уснуть.
С вечера разыгралась гроза. Сквозь шум деревьев доносится издалека печальной звон: это ветер раскачивает верёвку, привязанную к колоколу на заводе. Гулкие удары полны какой-то жуткой тревоги, как звон утопающего судна среди безбрежного океана. Я долго прислушиваюсь к этим гипнотизирующим звукам.
Вдруг резкие крики заставляют меня вскочить с постели. На дворе светает. Шумит несколько голосов. Потом слышно, как кто-то кричит по-русски:
— Я тоже начальство! Я должен защищать своих подчинённых. Я буду жаловаться полковнику...
— В чем дело? — обращаюсь я к тому, кто именует себя «тоже начальство» — к околоточному надзирателю.
— Да вот безобразие какое! Солдаты ваши избили до полусмерти моих стражников.
— За что?
Это вы у них спросите. Черт знает что такое! Этого так оставить нельзя. Я буду жаловаться губернатору. Он поедет с докладом к командующему армией. Я до верховного главнокомандующего дойду. Я — тоже начальство! Что же, стражник хуже какого-нибудь солдата? Я не позволю бить своих людей. Денщики все тут, на ногах. Я обращаюсь к Коновалову:______Скажи фельдшеру Шалде, чтобы принёс перевязочный материал.
* * *
До утра пришлось провозиться с перевязками. Переломов не было. Но били с безжалостным озверением. Тела и лица в страшных кровоподтёках.
— За что вас били? — допытываюсь я у стражников.
— Не знаем. Пришли с винтовками душ пятьдесят, связали руки и били.
— Пьяные?
— Нет, какие там пьяные... Верно, беженцы научили.
За чаем Евгений Николаевич спрашивает дневального:
— Уладили?
— Так точно.
— Жалоб не будет?
— Никак нет. Расписку выдали.
— Какую расписку?
— Фельдшер Тарасенков расписку составили, что никаких претензий не будет, а стражники подписали.
Минут через двадцать парк с треском и грохотом катил по шоссе. Фольварк спал ещё сладким сном. Когда мы проезжали мимо сада, в глаза мне невольно бросилось, что на деревьях нет ни одного яблока, ни одной сливы.
— Обчистили? — спросил я солдат.
— Никак нет, — улыбнулись они. — Это ветер сбил.
— А вы подобрали?
— Так точно. Скусная антоновка. Спелая. От ней холера не пристанет.
Дует холодный ветер.
Тучи беженцев. Лица синие, иззябшие. Бабы дрогнут от холода, оттого, что все тряпки отдали детям.
— Последние мрут, — жалуются они со слезами.
Кого ни спросишь: «Сами ушли?» — отвечают с болью и раздражением: «Не. Пришли солдаты. Хату спалили. Выгнали. А куда идём — сами не знаем. Теперь все замёрзнем».
При въезде в Слуцк — огромные флаги «Северопомощи» Зубчанинова[67]. Вхожу в шикарное помещение и спрашиваю дежурного врача:
— Холерных много?
— Масса. Мрут ужасно.
— Помогаете?
— Здесь невозможно. Отсылаем дальше.
— А знаете, что творится сзади?
— Понятия не имеем... Плохо?
— Советую побывать и полюбоваться на вашу «помощь».
— Что делать! В дороге все равно ничем не поможешь. Мы и здесь бессильны.
* * *
Весь день читаю газеты. Вероятно, с детства мы все усвоили чересчур высокие представления о достоинствах печати. Стоит ли злится из-за того, что события искажаются, скрываются или просто выдумываются! Печать такая, каков подлинник жизни. От журналистов категорически требуют: будьте Везувием, извергающим глыбы патриотической ненависти; станьте гусями, спасающими Рим. И журналисты напялили на себя гусарские рейтузы патриотизма. И под шумок стараются нажиться на своём гусино-патриотическом гоготанье...
Всепрощение легко воцаряется в душе, когда небо смотрит на вас голубым соблазняющим оком, а кругом такая нежно-хрустальная, девственно-чистая тишина. После закоптелых изб и грязных стодол, после вшей, матерщины и детских могилок на болоте залитая светом комната кажется пределом человеческого блаженства. Ласково улыбаешься каждой мелочи, от которой давно отвык: кафельной печке, письменному столу, полоскательной чашке, зеркалам, сверкающему подносу. И в голове бродит завистливо-мстительная мысль: как удобно устроились некоторые люди на земле, и как тяжело им, должно быть, расставаться с этим налаженным уютом.
А расстаться придётся...
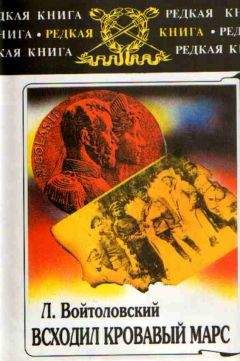

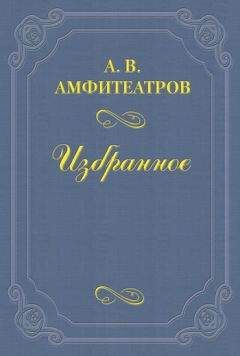
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)