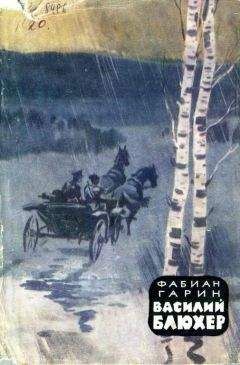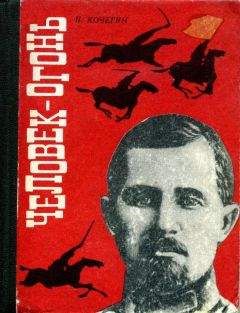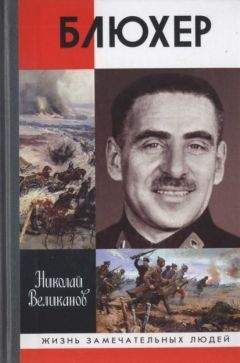Мать подложила под голову сына теплую, мягкую подушку, присела на постель, заговорила ласково, нараспев:
— А ты не печалься. Не бойся Питера, сынок. В городе‑то не хуже нашего живут. Все говорят: мир не без добрых людей. Иди смелей к добрым людям. Только вот что я тебе скажу: купца из тебя не получится. Купцы норовят как бы кого обхитрить да обмануть. А у тебя душа честная, прямая. Да и грамоты у тебя маловато. Просчитаешься. Проболтаешься в мальчиках годик–другой и ступай на завод. Учись ремеслу. На всю жизнь пригодится. Только бойся казенки. Пьяный и на ровном пути спотыкается. Твой отец не глупый человек, да вот вино с разумом не ладит. Одна денежка и та свищет…
— Не поеду я в Питер. Убегу…
Мать торопливо положила ладонь на голову сыну, медленно провела по жестким волосам, сказала грустно:
— Что ты, Васенька, опомнись. Трудно будет жить— к моему тяте пойдешь. Он шестой год в Питере живет. Плохому не научит…
— А с кем ты останешься? Кто тебе помогать будет?
— Дочки завсегда помогут. А там и Павлик подрастет. Ты обо мне не тужи, я с хозяйством и одна справлюсь. Я свое пожила, а у тебя все еще впереди. Думай о хорошем. Ну, спи. А я пойду.
Перекрестила сына, подоткнула под бок полушубок, бесшумно ушла. А сын долго еще не мог уснуть, думал о большом городе, в котором ему придется жить. Из родной маленькой Барщинки он несколько раз выезжал с матерью на базар в Рыбинск. Продавали огурцы, лук, капусту, картошку. Каждая поездка была праздником. К вечеру возвращались домой с гостинцами. Больше этого не будет. Все кончено…
И всю ночь его мучали страшные сны. Проснулся от петушиного крика. Прислушался. В избе тихо. Наверное, еще спят. Словно умываясь, старательно потер лицо. Живот напомнил, что вчера поужинать так и не удалось. Мама хвалилась богатой окрошкой. По времени пора бы и позавтракать.
Тихонько спустился вниз. На цыпочках подошел к двери. Услышал хрипловатый, жалостный голос отца:
— Господи, прости раба твоего Константина, сына Павлова. Согрешил не по злому умыслу, а за кумпанию. Жисть такая горькая, что только горьким и заливать, господи…
Вася отошел от двери, подумал:
«Похоже, что только начал каяться. Будет ныть, пока все свои погрешения в божий угол не выложит. И заходить в такое время нельзя — сразу поставит на колени просить милости всевышнего. Вот так всегда и бывает: вечером накричит, поколотит, а утром слезно вымаливает прощение. И такой добренький, ласковый становится, прямо не верится, что это он вчера буянил и заставлял плакать всю семью».
Со двора неслышно с подойником подошла мать, сказала укоризненно:
— И куда ты в такую рань поднялся? Спал бы да спал. Проголодался, наверное. Выпей‑ка молочка парного.
В чуланчике нашла кружку. Молоко пенилось на губах.
Мать посмотрела на белый рот сына, улыбнулась:
— Ступай в избу. Не бойся. Сейчас он не тронет — святой человек.
И сразу же открыла дверь.
Отец трижды перекрестился, встал, прищурясь, внимательно посмотрел на жену, словно припоминал что‑то важное. Озабоченно спросил:
— Анна свет Васильевна, ты вчерась узелок с телеги сняла?
— Да вот он, лежит на сундуке.
— Слава богу! Я струхнул малость, не обронил ли с косых‑то глаз.
Не спеша развязал узел и поставил перед сыном новенькие, начищенные до блеска ботинки. На голову надел черный картуз с лакированным козырьком.
— Вот тебе, Василий, обновочки на дорогу. Примерь‑ка, примерь!
Ботинки пронзительно скрипели. Ногам было неловко, жарко. Отец ходил вокруг, расспрашивал:
— Ну как, не жмут? Не трут? Ох и красивый ты парень, Васька! Да ты вроде бы и не рад? Не дури. Город научит уму–разуму. Вот я в городе пожил и дом поставил. Да не простой, а с мезонином. Щепой крытый, не соломой.
Вася сел на лавку, снял ботинки, сказал тихо:
— Спасибо. Как раз по ноге.
— Так ведь я сам выбирал. Вот что, ты сегодня погуляй, а завтра поедем.
Да, пока не забыл,, Анна Васильевна, найди‑ка Васины метрики.
Отец В. К. Блюхера — Константин Павлович
Мать достала из‑за иконы Георгия Победоносца свернутое в трубочку метрическое свидетельство. Отец разгладил документ, долго рассматривал его, озабоченно, нараспев прочел:
— «Родился сын Василий 18 ноября 1890 года».
Выходит, неполных четырнадцать лет. Маловато!
Придется годок накинуть.
Угощу писаря, и он бумагу выправит в полном аккурате. А ты, сынок, запомни раз и навсегда — родился ты, стало быть, 18 ноября 1889 года. Если хозяин спросит, так и говори. Поверит. Рост у тебя вполне подходящий. Женить можно.
— Это лишнее, Константин Лавлыч.
— Ладно! Собирай‑ка на стол, Аннушка. Перехвачу и поеду в волостное правление. Много хлопот с тобой, малец.
После завтрака отец запряг Черныша и уехал.
Вася надел старенькие ботинки, сказал угрюмо:
— Пойду на Волготню… В последний раз…
— Ступай, ступай. А я твое бельишко простирну…
Проснувшийся кривоногий Павлик подошел к брагу:
— Возьми с собой…
— В другой раз, — махнул рукой Вася и торопливо вышел из дому. Только на улице подумал, что «другого раза» не будет. И не хотелось верить, что завтра он уже не пройдется по этой просторной, пахнущей свежей капустой и яблоками, желтой от осенних листьев улице.
За домами Барщинки журчала, звала к себе Волготня. Летом — тихий, прозрачный ручей, весной и осенью— шумная, торопливо бегущая к Волге речка. Сколько больших и малых радостей приносила ты, резвушка–болтушка Волготня! Сюда бегал за водой, здесь ловил пескарей и окуньков, катался на санках и плавал на плотике. Берега твои кормили земляникой, малиной и черной смородиной.
Вася несколько минут постоял у коричневатой воды и неторопливо прошел к старой высокой березе. Сучья ее растут низко, их много, легко взбираться. И Вася залез на самую верхушку. Отсюда очень хорошо видна вся родная сторонка. За Барщинкой привольно раскинулись деревни Антоново и Волково. Да и до Середнева всего‑то полторы версты. Знакомая дорожка. Две зимы ходил в Середневскую трехклассную церковно–приходскую школу. На третью отец не пустил. Сказал сердито: «Нечего сапоги зря трепать. Жениться пора, а все за партой сидишь». А после, пьяненький, каялся: «Надо бы Ваську снова в школу наладить. Учитель его шибко хвалил. Говорит, самый прилежный и способный ученик в классе. Вот как получается—-не знаешь, где выгадаешь, где прогадаешь».
С маковки березы хорошо видна белая красивая церковь села Георгиевского на Раменье. Сколько раз туда ходили — и не сосчитать. Отец ни одного престольного праздника не пропустит. Поднимется чуть свет, наденет праздничный костюм и поведет всю семью замаливать грехи. А долго стоять на коленях трудно и скучно. Куда веселее за оградой среди ровесников. Крепче всех подружился с сыном самого батюшки, Ваней Лавровым. У него огромное богатство—много разных книг: и про птиц и зверей, и про сыщиков и царей. И про войну. Картинки красивые, разноцветные, смотреть не пересмотреть. Вот и вчера договорились встретиться в воскресенье. Не придется, больше не придется…
Затуманенными глазами Вася еще раз осмотрел такие родные и дорогие рощи, поля, тропинки, стремительно бегущую сверкающую Волготню и слез с березы. Домой идти не хотелось. Отец, наверное, опять приедет пьяненький и начнет всех ругать, а себя расхваливать, пока не уснет…
Трижды прошелся по Барщинке и никого из ребят не встретил. Пожалуй, это и хорошо. Будут зазывать на какую‑нибудь игру, ведь они не знают, что ему сейчас плакать хочется.
Вздрогнул, услышав за спиной тоненький голосок Павлика:
— Ва–ся, домой! Батька зовет…
У Павлика красные грязные щеки. Цепляясь за рукав, он испуганно спрашивает:
— Ты взаправду уезжаешь? И насовсем?
— Ага. В Питер…
— А как же я?.. Кто за меня теперь будет заступаться?
— А ты в драку не лезь. И не реви. Знаешь что: я тебе все свои богатства оставлю. Все секреты открою…
— И двухконцовый ножичек?
— Все отдам.
Павлик смотрит в лицо брата широко открытыми влажными глазами и просит:
— А все‑таки лучше всего… ты не уезжай. Мама тоже плакала…
— Я буду приезжать… Как все питерщики.., На лето, — обещает Вася, хотя и не верит, что ему эго удастся.
Угрюмый отец встречает на крыльце вопросом:
— Где ты целый день шатался, бессовестная морда?
И, не дожидаясь ответа, проходит в избу.
— Бумагу я достал форменную. Честь по чести. Вот ты на год и вырос.
— Ты бы заодно и фамилию сменил, а то все дразнятся…
— И рад бы, да закон не велит. Кто я такой? Коренной ярославский мужик, а кличут на немецкий манер да еще похабничают, зад наперед поворачивают. А откуда этот срам взялся? Тоже ведаю. Твой прадед Лаврентий в суворовской армии служил и был что ни на есть самый храбрый и ловкий солдат. Домой возвратился — вся грудь в крестах и медалях. Представительный такой мужчина, бравый и красивый, вроде меня. Ты не скаль зубы, слушай дальше. И вот приехал к нам в Барщинку помещик Кожин, человек тоже военный и в больших чинах. Глянул на Лаврентия и аж за голову схватился: «Ах, какой ты, говорит, видный, форменный фельдмаршал Блюхер». А народ‑то сразу и подхватил — Блюхер да Блюхер. Так и вошла эта окаянная немецкая фамилия в наш корень. А ты не робей. Будут к тебе приставать, откуда, дескать, родом, говори: правнук фельдмаршала Блюхера. Кто знает, может, и по военной линии пойдешь, так оно и пригодится…