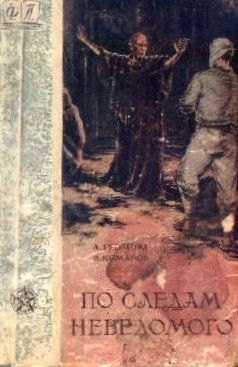— Отгого-то иной раз лучше по морде дать, — заметил Старосельский.
— Ну, вы, конечно, за плётку, — едко бросает Костров.
— Да, без плётки нельзя, — запальчиво подтверждает Старосельский. — Может быть, имея в своём распоряжении человек пять или десять, вы ещё добьётесь чего-нибудь миндальничаньем. Но мой десятилетний опыт меня научил: чтобы быть командиром, нужен решительный тон, властность, железная дисциплина, а иногда удар по лицу. Два года я хотел действовать на солдата лаской и уговорами — и два года солдаты сидели у меня на шее. В моей батарее был форменный кабак. Теперь я считаюсь одним из лучших офицеров в бригаде. В батарее у меня порядок, знание дела, исполнительность. И я знаю, что я достиг этого только страхом. Наш солдат привык и дома к страху, и только страхом можно понудить его к исполнению долга. Дополняй пощёчиной приказание — таково моё правило, чтобы солдат сознавал, что ты — сила, которая распоряжается им всецело.
— Бить в сердцах, — брезгливо вставил Джапаридзе, — позор, для офицера. Но ударить — часто необходимо. Ударить открыто, перед всем фронтом. Как необходимо иной раз расстрелять.
— Дело совсем не в том, — говорит Медлявский. — Меня интересует, почему тысячи убитых на войне уже мало нас трогают, а расстрел одного солдата произвёл огромное впечатление и на меня, и на всех?
— Очень просто, — отозвался Костров. — Надо отличать наказание смертью и смерть от простого убийства. На войне мы сражаемся, то есть выступаем в открытом поединке, и притом сражаемся во имя идеи. Отправляясь на войну, мы идём не убивать, а защищать свободу, родину, порядок. И если мы убиваем, то это убийство освящено требованием всего народа и участием в нем миллионов таких же невольных убийц. А здесь, в этой казни солдата, человек, который за час до казни, быть может, десять раз рисковал своею жизнью «во имя родины и тех самых начальников, которые осудили его на смерть, слишком чувствуется фальшь этого осуждения. Сколько жителей ограблено и убито офицерами в Галиции, а попал ли хоть один из этих офицеров под суд?
— Чепуха! — резко бросил Старосельский. — Конечно, если смотреть на войну глазами шестидесятилетнего монаха, то всякий выстрел — стыд и позор. А по-моему, так: убил мирного жителя, как разбойник, — становись под расстрел. И кончено! Туда ему и дорога.
— Но почему же смерть этого солдата так взволновала меня? — спрашивает Медлявский.
— Очень просто: потому что вы — тряпка; адвокат, а не офицер. И вы, и доктор Костров, и другие — вы все хорошие люди, но в офицеры вы не годитесь.
— Значит, по-вашему, чтобы быть офицером, нельзя быть хорошим человеком! — смеётся Кириченко. — От-то, забодай его лягушка!
* * *
С соседней батареи завернул к нам на часок капитан Герасимов. Молодой, статный, сильный. Он пользуется репутацией поразительно смелого человека. Имя его известно всем солдатам нашей дивизии. Окинув быстрым взглядом столы, Герасимов небрежно указал на пачку газет:
— Неужели читаете?.. Я не могу: противно. У меня такое чувство, будто все лжесвидетели по консисторским делам подрядились в газетные писаки. Что ни бой, то картина из Верещагина. «Гремит музыка боевая. Знамёна реют в небесах...» А знамёна-то несут позади, чуть не в обозе держат. Музыки никакой. Противника и в лицо не видишь. Ружьё бьёт на две тыщи шагов. В бой идут рассыпным строем. Вообще никаких парадов и фейерверков. Только зубами от страха клацаешь. В течение пяти дней и пяти ночей мы наблюдали издали наступление брусиловской армии. Канонада шла беспрерывная. На небе ни звёздочки. Мы могли наблюдать, как полыхают молнии из пушек и танцуют в небе шрапнели. Это было очень красивое зрелище. Но хотя я был в полной безопасности, я думал, конечно, не об эффектах танцующих огней. Я думал о возможном исходе этого боя, о тех путях, которыми достигается победа, о последствиях поражения. И уж конечно все эти мысли исключали вопрос о пушечных фейерверках. Кто с беззаботным сердцем прислушивается к грохоту сражений и не стыдится кричать об этом в газетах, тот либо плут, либо нуждается в помощи психиатра.
— Как? — удивляется Болконский. — Вы отрицаете геройство и храбрость? Энтузиазм, экстаз, опьянение боем — это все, по-вашему, газетная ерунда?
— Конечно, бывают минуты страшного возбуждения, когда гневно раздуваются ноздри, и ты готов кричать и метаться. Но это совсем не то великолепное чернокнижие, которое описывают газетные Гинденбурги. Просто дикий порыв. Кидаешься в бой, как кидается бешеная собака, которая охвачена яростью и впивается зубами в первый попавшийся предмет. Но ведь к этому сводится вся военная подготовка. Когда офицер командует: пли! — то солдат уже чувствует перед собой врага, уже готов колоть, разрушать и драться. Война на том и построена, что она идёт по бессознательным рельсам. Солдаты смотрят на взводного, взводный на фельдфебеля, фельдфебель на офицера. От одного к другому тянутся воинские нити, которые связывают всю армию с командным составом. Дёрнули ниточку в Варшаве, и по всему галицийскому фронту загремели тяжёлые орудия, засверкали ружейные огни, и сотни тысяч солдат пришли в боевую ярость.
— Вы исключаете всякую инициативу в бою?
— Совсем нет. Чем больше личной инициативы, тем лучше для армии.
— То есть вы хотите сказать, что все зависит от личного мужества сражающихся?
— Вы опять не так меня понимаете. В том-то и дело, что никакого мужества нет!
— Ну, это, батенька, парадокс, — хохочет Костров.
— Господа, вы знаете какую-то театральную храбрость, которая существует только в воображении газетных писак.
— Позвольте, но признаете же вы чувство храбрости у людей?.
— Такого чувства не существует. Прошу меня выслушать. Храбрость не чувство, а результат многих чувств. То есть есть храбрые люди, но их отважные поступки подсказываются не какой-то врождённой храбростью или чувством безграничного мужества. Такого чувства не существует. Люди храбры не оттого, что в груди их обитает какая-то природная благодать, которая повелевает громовым голосом: будь отважен и смел! А потому, что гнев, или ненависть, или сознание долга, или профессиональное самолюбие подсказывает им такие решения и такие поступки, которые мы определяем как смелые, героические.
— Но ведь это чистый софизм, — вставляет Болконский. — Не все ли равно, чем вызвано геройство? Вы говорите так: геройство вызвано гневом, а я утверждаю: гнев вызван геройством. В конце концов это сводится к схоластическому спору: кто явился раньше на свет — яйцо или курица?
— О, нет, мои милые. Это совершенно не так. Храбрость из ненависти — это одно. Храбрость из чувства долга — другое. Храбрость из преданности народу — третье... Есть разные храбрости. И гнев, и ненависть — это плохие советчики. Их храбрость дешёвая, лубочная, газетная. Но это, впрочем, неважно. Важно то, что врождённой храбрости нет!
— Что вы этим желаете сказать?
— Что храбрость — это не вдохновение, а трезвая математика, сухой расчёт. Да, храбрость часто соприкасается с осторожностью. Храбр по-настоящему тот, кто может себя заставить быть храбрым. А безрассудная, стихийная храбрость не стоит ничего на войне.
— Я все-таки не понимаю, — говорит Медлявский, — почему вы так много значения придаёте происхождению храбрости? Храбрость есть храбрость, из какого бы источника она ни происходила.
— Вот в том-то и дело, что вы знаете какую-то одну — фиктивную, театральную храбрость. Из всех видов храбрости это самая лицемерная. Тогда как в действительности храбрость имеет тысячу ликов. Разрешите рассказать вам несколько отдельных эпизодов из моего собственного опыта на войне.
Припоминаю такой, например, случай. Нас стояло восемь офицеров третьей батареи. Вдруг шагах в сорока от нас разорвался снаряд. Осколки взвизгнули и рассыпались. И было слышно, как кружится и воет в воздухе шрапнельная трубка и летит прямо на нас. Мы все продолжали разговаривать: и виду не хотелось подать, что мы боимся. Но разговор не клеился. Я все время думал: куда? В живот или в ноги?.. Трубка упала в шести шагах от нас. Все вздохнули. «А ты обратил внимание, какие у нас лица-то были?» — спросил меня товарищ, когда мы возвращались в халупу.
— Вы хотите сказать, что рисковали из простого самолюбия?
— Какое тут самолюбие? Просто глупость. Вот как сестры милосердия ездят на батареи или в окопы лезут, чтобы показать офицерам, что и они не боятся. Офицер Бендерского полка рассказал мне такой эпизод. Отчаянным натиском были взяты австрийские окопы. В шестистах шагах от окопов стояла неприятельская батарея. Охранения никакого. Прислуга в панике билась и путалась с лошадьми. Двух залпов пятидесяти пехотинцев было совершенно достаточно, чтобы захватить все орудия. Офицер кричал, звал — никакого внимания: солдаты шарили в неприятельских ранцах и жрали австрийские консервы. Офицер добавил: «Эх, кабы не подлецы-солдаты!»
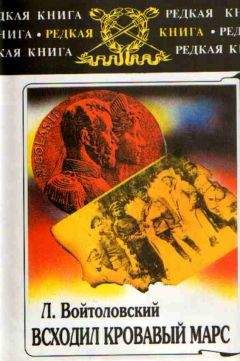

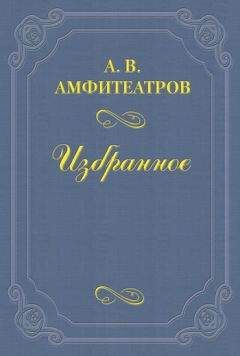
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)