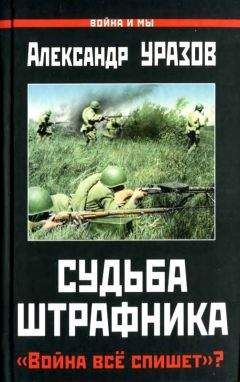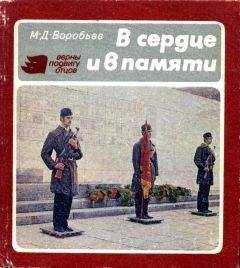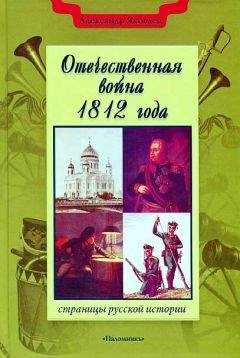В тот же день его Галю отправили в армейский особый отдел. Лейтенант Хазиев и старшина Кобылин поехали на Украину, в родные места наших «боевых подруг», чтобы разузнать, кто они, как говорится, из первых рук. С ними на всякий случай поехали и сами ротные дамы, чтобы их могли опознать.
Кто-то донес в Особый отдел армии, что в нашей роте есть гражданские лица, в то время как в прифронтовой зоне им находиться было запрещено. Возможно, сообщили и то, при каких обстоятельствах они к нам попали.
Дней через десять Хазиев вернулся вместе с девушками, одетыми в военную форму — их зачислили на службу. Не вернулась только Галя, так как оказалось, что она сотрудничала с немцами. Этому особенно был рад ординарец Сорокина. Не один раз он, подвыпив, приходил ко мне и плакал, рассказывая, как женщина издевалась над ним, фактически превратив в раба. Она не стеснялась показываться перед ним полуобнаженной, заставляла мыть ей ноги, стирать нижнее белье и делать многое другое, оскорбительное для стороннего мужчины.
— За что я так унижен? — спрашивал он. — Да, я штрафник и готов искупить свою вину кровью. Я готов делать для Сорокина все, что он прикажет. Но прислуживать, как раб, этой «немецкой овчарке»!.. Я говорил с Лукой Ивановичем, но он накричал на меня и пригрозил оторвать голову, если я не буду выполнять приказания этой суки как его собственные!
Теперь ординарец избавился от этой «овчарки», но и его Сорокин отправил во взвод, взяв другого солдата.
Хазиев несколько раз ездил в штаб армии и со временем узнал, кто написал анонимку — это сделал старшина Тамарин. Когда началась Ясско-Кишиневская операция, Сорокин отправил его на передовую. В бою Тамарину миной изрешетило всю спину, но он остался жив и писал из госпиталя Сорокину, прося о прощении и разрешении возвратиться в нашу часть.
Лето было в разгаре, когда мы получили приказ выдвинуться к линии фронта и занять исходные позиции для наступления.
Я с ездовым вез этот приказ из штаба армии, с нами ехала в роту для инспекции старший лейтенант медицинской службы, смазливая полненькая девушка лет двадцати пяти. Дорога была дальняя, солнце жарко пригревало, одолевал сон. Мы с медичкой лежали на сене, ездовой правил лошадьми. В завязавшемся разговоре девушка посетовала на то, как ей трудно отбиваться от стариков-полковников в штабе армии, что она их уже ненавидит и предпочтет им любого солдата. Я полковником не был, и уже скоро мы начали страстно целоваться и обниматься. Ездовой сказал:
— Ваше дело молодое, что хотите, то и делайте, я не буду оборачиваться.
Всю дорогу мы лежали, тиская друг друга и целуясь до синяков. Когда мы приехали к вечеру в часть, я с трудом мог ходить от усталости. Я представил привезенную девушку командиру роты, Живайкину и Асе Воробьевой, которых она приехала проверять. Затем она пришла в комнату, где размещался «штаб». Лосев принес ужин, вино.
Для видимости мы легли в постель порознь, и… о позор! Измученный в дороге, я уснул сном праведника. Проснулся я, когда в окнах блестело солнце. Медички не было, все готовились в путь. Я быстро оделся, умылся, но побриться уже не успел. Обоз тронулся следом за колоннами взводов. Две штрафные роты делились условно, хозяйство было общим.
Я увидел свою медичку сидящей на тачанке командира роты рядом с Сорокиным. Увидев меня, она отвела глаза, да и мне было неловко встретиться с ней взглядом.
Привал на обед устроили на широком лугу у излучины небольшой стремительной речки. Командиру роты поставили палатку, куда юркнула моя медичка. Всем стало ясно, для чего в обеденный привал поставили палатку и отнесли в нее матрасы и обед. Вот тебе и ненависть к офицерам! Вот тебе и любовь к солдатам! Не дождалась даже ночи…
Солдаты, пропотевшие и запылившиеся в дороге, устремились к речке, но берег был обрывистый и почти вертикально уходил в воду, а на поверхности крутились буруны. Командиры взводов забегали по берегу, предупреждая об опасности утонуть, но те, кто хорошо плавал, уже кувыркались на середине речки, фыркая от удовольствия.
Когда спала жара, взводы выстроились и двинулись дальше. Ездовые и старшины ждали, когда Сорокин даст «добро» на движение обоза, но палатка была плотно закрыта. Наконец, ординарец Сорокина передал распоряжение всем подводам, кроме одной, ехать вслед колоннам. На лугу осталась его палатка.
На ночлег остановились в поле. Недалеко шумел дубовый лес, вдоль окраины которого шла дорога. Когда начали сгущаться сумерки, к командиру роты пришел один штрафник и начал просить отпустить его на ночь в близлежащую деревню к тетке, которую он давно не видел.
Сорокин вытащил из планшета карту, сориентировался и стал искать названную бойцом деревню Марьинку, но такого названия на карте на было.
— Где же эта твоя Марьинка? В каком районе?
— Да недалеко от Алтайска.
— Где-где? Ты сам откуда?
— Из Алтайска. А Марьинка здесь, за этим бугром, пойдемте, я покажу! Если идти по дороге вдоль леса, то она будет направо.
Мы вышли из домика, и солдат стал указывать направление, где, по его мнению, находилась Марьинка. Мне и Лосеву приказали нести охрану дома.
— Товарищ майор, я давно не видел тетю. Разрешите повидаться! Утром вы будете проходить мимо деревни, и я вернусь!
— Да ведь твоя Марьинка на Алтае, а не в Молдавии?!
— Нет, она здесь, за бугром, там моя тетя!!!
— Ах ты, гад! Ты чего притворяешься? Хочешь дезертировать? Да я тебя!.. — И Сорокин отвесил солдату оплеуху. Тот бросился бежать по дороге, крича:
— Я к тете! Я к тете!
— Стой, сволочь! Стой! Стрелять буду!
Но солдат продолжал бежать. Сорокин крикнул мне:
— Уразов! Стреляй в него! Стреляй, тебе говорю!
У меня была заряженная винтовка, с которой я должен был заступить на охрану. Я щелкнул затвором и стал целиться в спину убегающему, но меня трясло, как в лихорадке. Грохнул выстрел, но пуля не задела беглеца. Майор выхватил у меня винтовку, передернул затвор.
— Чего трясешься! Вояка!..
Он стоя прицелился и выстрелил. Убегающий остановился, зашатался и упал. На выстрелы сбежались офицеры и старшины. Сорокин бросил в мои трясущиеся руки винтовку и приказал привести к нему солдата, увидев, что тот пытается подняться.
Когда его подвели к Сорокину, у него текла кровь ниже ключицы, пуля прошла навылет. Живайкин и санинструктор повели раненого на перевязку. Пришел Хазиев, и Сорокин объяснил ему, в чем дело. Солдата под охраной отправили в медсанбат, а я и Хазиев стали составлять донесение о попытке дезертировать из части. Я, конечно же, считал это не дезертирством, а сумасшествием, но командир приказал… Больше мы этого солдата не видели.
Утром медичка задержала часть, решив проверить солдат на завшивленность, но Сорокин подал команду выступать и сказал, что документ о проверке части подпишет и без этого.
Мы вышли к линии фронта в район Унгены и заняли исходное положение для наступления, назначенного на 8 часов утра 20 июля.
В назначенное время началась двухчасовая артиллерийско-минометная подготовка. Я был потрясен — такой мощи огня ранее видеть и слышать не доводилось. Если бы все орудия и минометы выстроили в ряд вдоль линии фронта, то они стояли бы друг от друга на расстоянии ближе двух метров. 600 стволов на километр линии фронта — это ли не мощь!
Артподготовка началась с залпов «катюш», и потом отдельных выстрелов уже не было слышно. Наши бойцы поднялись во весь рост и смотрели, как взрывы плясали на позициях врага, кричали и потрясали оружием. Вначале артиллерия противника пыталась отвечать, но потом воздух сотрясали лишь залпы с нашей стороны. Два часа неистовствовал адский огонь, и вдруг все стихло. Казалось, барабанные перепонки не выдержали и лопнули — мы оглохли от тишины.
Я простился с Иваном Живайкиным, пожелал ему остаться в живых и не соваться на рожон, и он пошел с санитарами в боевые порядки.
Взвилась ракета. Из наших окопов поднялась лавина людей, грохнуло, не смолкая, «ура», и наши бойцы пошли в атаку, не встречая сопротивления. Лишь в глубине вражеской обороны раздавался редкий ружейно-пулеметный огонь, который не мог решить исхода битвы или хотя бы как-то повлиять на него. Над нами низко пролетали в сторону врага знаменитые «воздушные танки» Ил-2. Они добивали очаги сопротивления, оставшиеся после артподготовки.
Сорокин послал меня с боевым донесением к командиру дивизии, на участке которой действовали наши штрафники, сказав, куда идти потом, чтобы догнать роту.
Я отнес пакет и пошел вслед удаляющемуся к горизонту обозу прямо через нашу оборону и оборону противника, перепрыгивая через окопы, обходя глубокие воронки. В румынских окопах и траншеях лежали убитые. Они не пытались отступать, и поэтому на поверхности земли не было трупов. Я спустился с пригорка и увидел, как в нескольких километрах от меня по дороге к городу еле заметными букашками двигался обоз.