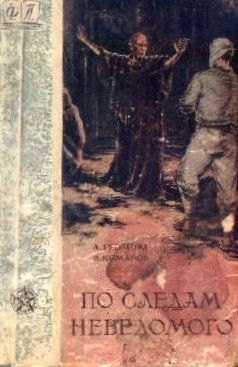— Садырин! Пошвыряйся там у жидов — не найдётся ли ещё бутылки рому?
* * *
Опять я, как Чичиков, качу со своими Петрушкой и Селифаном по снежным ухабам.
— Эй, птицы! — нахлёстывает вожжами Дрыга.
В голове у меня надоедливо путаются гостеприимные прапорщики, плачущие бабы и мужики, запуганные евреи, топающие городничие, ревизоры, дровяное довольствие, сальные свечи, денщики, скоморохи, великокняжеские самодуры... Уж и впрямь, не воскресшая ли это гоголевская Русь, с перекладными, жирными кулебяками, дворовыми песенниками, с ноздревщиной, хлестаковщиной, прекраснодушной маниловщиной. Только Чичиковы наших дней стали куда загребистей прежнего — спекулируют не мёртвыми душами, а кровью...
Беру жизнь такой, какая она есть.
Сижу за печкой в офицерском вагоне, битком набитом военной «рухлядью»: интенданты, сестры милосердия, доктора, земгусары[22] и прапорщики. Паровоз, хрипло посвистывая, несётся мимо молчаливых и разрушенных станций. Нищие, оборванные детишки и голодные старухи костлявой рукой стучатся в окна вагонов, делая жалобные гримасы. Это мало кого интересует. На фронте нет неврастеников, людей с избытком слезливой жалости. К «бытовым явлениям фронта давно привыкли и стараются не замечать ни разорения, ни слез. Каждый думает только о себе и готов вцепиться в горло каждому, буде сие понадобится для сохранения живота своего. Грохотом орудий давно раздавлены всякие сантименты. Люди злы, бесцеремонны и грубы. Открыто и раздражённо высказывают все, что накипело в душе.
В вагоне дымно, угарно. Воняет олифой и жестью. Кругом храпят, кашляют и плюют. Раскалённая докрасна окопная печь ежеминутно потрескивает от неосторожных плевков. Без утайки вытаскивают наружу «души оскорблённой занозы». Обогащаю новыми чёрточками свои дневники. Сверчок за печкой...
* * *
Говорит пожилой интендантский чиновник 25-го корпуса, обращаясь не то к соседу, не то ко всему вагону:
— Час от часу тяжеле... Извольте радоваться — новый приказ по интендантству... Не приказ, а семидесятипудовая «Берта». Предписывают заниматься фуражировкой только в районе собственного корпуса! Не угодно ли? Пятый месяц на одном месте стоим. Все деревни на пятьдесят вёрст кругом дотла очистили... Вот вам — в районе собственного корпуса... А попробуй заикнись — под суд отдадут. Командир корпуса знать ничего не хочет: загоняй экономию — и баста! А какая тут к черту экономия?! Из всех частей срочные требования: хоть тресни, а подай! Штаб армии своё талдычит: покупать по справочным ценам! Вот и вертись, как бес перед заутреней...
— Что ж вы будете делать? — интересуются слушатели.
— Ума не приложу! Не угодно ли? С населением кончено. Ни лаской, ни силой — пылинки не выкачаешь. Сами с голоду дохнут. С панами лучше не связываться. Это такие, доложу я вам, живодёры, каких свет не видывал. Стоит для них, прохвостов, кровь проливать...
— А как же вы до сих пор обходились?
— Очень просто. Подрядчикам сдавали. Засылали в чужие районы фуражиров... Из прифронтовой полосы давно все выкачали...
— Это кто же, все Радко-Дмитриев старается? — задаёт вопрос прапорщик.
— Уж не знаю, кто там старается, а Радко-Дмитриеву не усидеть, — угрюмо соображает интендант.
— Давно пора! — соглашается прапорщик.
— Это ж за какие провинности? — ехидно спрашивает полная сестра милосердия, окружённая баулами и картонками.
— Не верят ему солдаты, — уклончиво отвечает прапорщик.
— Верно! — вмешивается новый прапорщик. — Я сам слыхал. При мне говорили: «Командующий у нас ненадёжный». «Почему?» — спрашиваю. «Чудак ты, — говорят. — Ровно ты дите малое. Сам рассуди: ён кто? Болгарин?» — «Да». — «Как же так? Что ж он один против своих воюет?..»
— Возмутительно! — негодует сестра. — Расстрелять такого солдата! Я бы...
— А вы здесь при чем? — обращается к ней с вызовом первый прапорщик.
— Не для того я столбовая дворянка у своего государя, чтобы такие гадости слушать! — запальчиво отвечает сестра и отворачивается к окошку.
Говорит врач в пенсне, нервно теребя небольшую бородку. Он бросает слова, как камни, с явным желанием задеть и больно ударить:
— А я утверждаю, что штыковых боев нет! С начала войны работаю в полковом лазарете. Сотни, тысячи раненых пропустил. Штыковой раны не было... Ни одной!
— Как же так? — вежливо удивляется земгусар. — У других врачей были...
— Спрашивал! — резко бросает доктор. — Сорок хирургов опросил. Никто не видал!
— Однако ж факт налицо: штыковой бой существует, — снисходительно улыбается собеседник.
— Я вам русским языком говорю: штыковых боев нет!
— Ну, знаете, — пожимает плечами земгусар. — Значит, врут все официальные донесения?..
— В штабных донесениях, конечно, существуют, — злобно выкрикивает доктор. — Да только все это че-пу-ха! Выдумки тыловых болтунов и газетных щелкопёров..Да-с... Ни та ни другая сторона штыкового удара не при-ни-ма-ет! Слышите! Не принимает.
— Позвольте! Вы спорите против очевидности. Не дальше как на прошлой неделе высота сто четыре была отбита у противника штыковым ударом. Это известие облетело все газеты.
— Ага!.. Высота сто четыре, — обрадованно зарычал доктор. — Молодецким штыковым ударом... Как же, как же... — Доктор протёр пенсне, собрал в горсть бородку и ехидно рассмеялся: — А вот не угодно ли послушать, как это происходило в действительности? Смею вас заверить, что располагаю точными сведениями. Да-с. Имею честь состоять врачом сто пятнадцатого полка, который брал высоту сто четыре.
Он с особенным ударением остановился на слове «брал».
— Три раза ходили наши части в атаку и три раза отошли с огромным уроном. А штаб дивизии все шлёт телефонограмму за телефонограммой: «Во что бы то ни стало занять высоту сто четыре». Командир полка нервничал, волновался. Наконец, собрал все свои потрёпанные резервы и в четвёртый раз бросил свой полк в атаку. И с таким же печальным результатом.
— У вас кто командир полка?
— Полковник Курдюмов. Человек упрямый, решительный и смелый. Получив в пятый раз приказание «занять во что бы то ни стало», он протелефонировал в штаб дивизии: «Высоту сто четыре атаковать без усиленной поддержки со стороны артиллерии невозможно». Из штаба дивизии ответили: «Предать суду офицеров полка и немедленно бросить полк в атаку и занять высоту сто четыре». Делать нечего. Боевой приказ. Ослушаться невозможно. На другой день в штаб дивизии полетело срочное донесение: «Сего числа сто пятнадцатый пехотный полк молодецкой ночной атакой под командой батальонных и ротных командиров в штыковом бою опрокинул противника и занял высоту сто четыре». Из штаба дивизии получили немедленное распоряжение: «Представить к наградам и боевым отличиям весь наличный состав сто пятнадцатого полка».
Доктор обвёл глазами слушателей, которые с недоумением смотрели на него. Он медленно протёр пенсне, хихикнул и продолжал с торжествующим злорадством:
— А через шесть часов полковник Курдюмов послал новое донесение: «Собрав превосходные силы и поддерживаемый огнём своей тяжёлой артиллерии, противник атаковал высоту сто четыре и заставил нас отойти на прежнюю линию».
— Но ведь это — просто шантаж!..
Грубый голос, произнёсший эти слова, ворвался в сумеречную тишину вагона как общий, единодушный вывод.
— Ну, что ж... — насмешливо протянул доктор. — А вам все подвигов хочется? — И угрюмо закончил: — О подвигах пускай мечтают в тылу. А здесь об одном все думают: как бы шкуру спасти.
* * *
В вагоне мертвенно тихо. Страшный рёв разрушения не так пугает, как его зияющее безмолвие.
Все кажется погруженным в чёрные воды Сана, в мрачный холод пустынных улиц с заколоченными домами... Ни смехом, ни страстной любовью не оживить эту умерщвлённую тишину. Только красотой печальной песни...
На войне душа человека торжествует только в песне. Нигде никогда не поют с таким глубоким волнением, как на фронте. Недаром солдаты говорят: «Никому так спасибовать не надо, как тому, кто солдатам песни придумал».
Как хорошо поют прапорщики! И песня так страстно протестует своей возвышенной грустью. Высоко плывут тенора, оторвавшись от земли, и тяжело, с каким-то раздирающим стоном, клонят песню к земле басы:
Покрыты костями карпатские горы,
Озера мазурские кровью красны,
И моря людского мятежные взоры
Дыханьем горячим полны.
Зарницами ходит тут пламя пожаров,
Земля от орудий тут в страхе дрожит;
И вспаханы смертью поля боевые,
И много тут силы солдатской лежит.
Как свечи, далёкие звезды мерцают,
Как ладан кадильный, туманы плывут,
Молитву отходную вьюги читают,
И быстрые реки о смерти поют.
Тут синие дали печалью повиты,
О родине милой тревожные сны,
Изранено тело и души разбиты,
И горем, и бредом тут думы полны.
Во Львове при входе в общую залу на вокзале наталкиваюсь на странное зрелище. За длинными столами сотни три австрийских офицеров при шашках и в самых непринуждённых позах. Русские офицеры чуть вкраплены поодиночке. Выделяется группа из шести человек — за отдельным столиком у окна. Между ними бросаются в глаза два австрийских генерала: один — худой, высокий, с лицом улыбающегося ястреба; другой — черноусый, приземистый, еврейского или итальянского типа. Рядом с высоким — горбоносый молодой офицер с собакой, которую держит на привязи. Все трое иронически оглядывают зал.
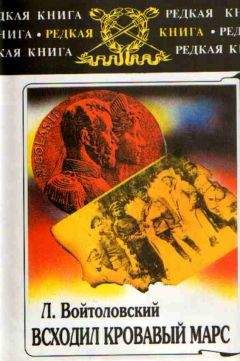

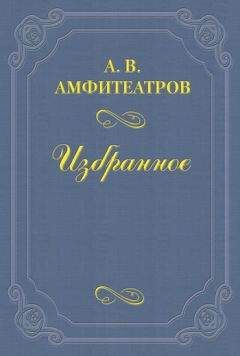
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)