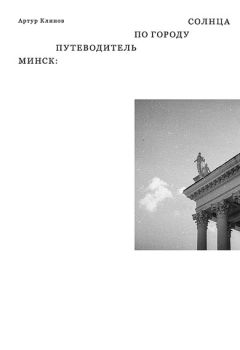красоте». Вулф рассказывает похожую на исследование Фридан историю об идеологическом отходе от предыдущих достижений феминизма. По мнению Вулф, «чем больше юридических и материальных барьеров женщины преодолели за два десятилетия радикальной деятельности, последовавшей за возрождением феминизма в начале 1970-х годов», тем «суровее, тяжелее и безжалостней образы женской красоты стали тяготить нас».
Как и Фридан, Вулф часто преподносит эту ситуацию не как стечение различных исторических факторов, а как результат сознательного планирования, особенно со стороны рекламщиков и самой индустрии, которые в большинстве своем готовы много чего заполучить от этого возвращения семейных ценностей.
Порой Вулф не скрывает, что переписывает Фридан для нового поколения, повторяя, например, сюжет о том, что женщин обманным путем приводят в отупляющее состояние степ-фордских жен, то есть автоматов, запрограммированных тратить деньги уже не на домашнее хозяйство, а на поддержание своей физической привлекательности. «Перефразируя Фридан, — пишет Вулф, — можно задаться вопросом, почему никогда не говорят о том, что главная функция женщин в роли честолюбивых красоток состоит в том, чтобы делать больше покупок для самих себя?».
Впрочем, в другой раз Вулф не ссылается на своих интеллектуальных предшественниц, и в итоге «Миф о красоте» выглядит скорее неким палимпсестом феминизма последних тридцати лет, где все еще видны смутные следы предыдущих точек зрения и образов. История о том, как феминизм шел на уступки, остается на дне текста Вулф, но в решающие моменты всплывает на поверхность.
В «Мифе о красоте» сквозит текстуальная тревога по поводу того, что считать метафорой, а что понимать буквально. Вулф часто повторяет, что многие из тех тропов, которые она использует для описания угнетения женщин посредством мифа о красоте, на самом деле не фигуры речи: она трактует их буквально. «Элекгрошоковая терапия — это не просто метафора», — предупреждает она.
Вероятно, Вулф имеет в виду, что манипуляция сознанием женщин не только сопоставима с электрошоковой терапией, но порой действительно происходит с ее помощью. Похожим образом Вулф колеблется между буквальным и метафорическим, сравнивая физические увечья, которые наносились рабам, и «спрос на услуги в области косметической хирургии».
«Экономика косметической хирургии — это, конечно, не рабовладельческая экономика», — объясняет Вулф. Но затем автор добавляет, что «своим спросом на непрерывное, болезненное и рискованное изменение тела она образует — как татуировки, клейма и шрамы в другое время и в другом месте — категорию, попадающую куда-то между рабовладельческой экономикой и свободным рынком».
В искреннем обсуждении нарушений питания Вулф демонстрирует меньше сомнений и больше уверенности в том, что угнетение женщин происходит не где-то между метафорическим и буквальным, а вместо этого является превращением метафорического в буквальное:
«Женщины должны потребовать объявить анорексию политическим ущербом, причиняемым нам общественным устройством, при котором уничтожение нас не считается чем-то важным, потому что мы — низшие. Мы должны назвать анорексию тем, чем евреи называют лагеря смерти, а гомосексуалисты — СПИД: иначе говоря, позором, который лежит не на нас самих, а на бесчеловечном общественном устройстве. Анорексия — это тюремный лагерь. Каждая пятая образованная молодая американка является узницей этого лагеря. Сьюзи Орбах сравнила анорексию с голодовками политзаключенных, особенно суфражисток. Но время метафор прошло. Страдать анорексией или булимией — значит быть политзаключенным».
Вулф первой выступила за трактовку анорексии как политического ущерба. Вулф настаивает на абсолютном уподоблении нарушений питания политическому заключению.
* * *
Результаты стилистического стремления Вулф к полному отождествлению в приводимых ею метафорах вызвали много критики — как и в случае с Фридан, сравнивавшей жизнь домохозяйки с пребыванием в нацистском концентрационном лагере. Настойчивое уравнивание личного и политического ведет к уничтожению любых границ.
Может ли анорексия «быть» тюремным лагерем в том же самом смысле, в каком был Освенцим? Мог ли ВИЧ-инфицированный или узник концентрационного лагеря спастись из своей «тюрьмы», признав ложные образы гомосексуальности или еврейства, которые, следуя логике Вулф, держали их взаперги?
Эти сравнения, несомненно, плохо скроены, но вместе с тем смысл утверждения обнаруживается в его нацеленности на саму проблему образа Заявлсчше из разряда «время метафор прошло» — палка о двух концах. Эта фраза говорит о том, что чувствует Вулф, а она чувствует, что в условиях ответного удара меры нужно принимать вдвое быстрее, потому что стилистические околичности — это роскошь, которую феминизм уже не может себе позволить.
История, по мнению Вулф, сыграла плохую шутку с женщинами, превратив их некогда образный язык в буквальный факт. Но в то же время в этом утверждении воплощается тревога по поводу самого языка, если говорить о противоположном желании совместить описание с опытом, достичь неопосредованной сферы за пределами изображения.
Отсюда вытекает, что язык — ив особенности метафора — хронически не могут соответствовать стремлению феминизма показать людям, как все обстоит на самом деле. Может показаться, что образ стал врагом феминизма, вступив в заговор против женщин и мешая им быть адекватно понятыми.
Вулф пригибается под грузом феминистских текстов, написанных за последние тридцать лет и замусоренных мертвыми или усвоенными метафорами, требуя при этом непрекращающегося изобретения и упрочения новых сравнений. Так, во второй главе книги, в которой предлагается растянутое сравнение Мифа о Красоте с худшими проявлениями религиозных культов, Вулф указывает, «никогда не признавалось именно то обстоятельство, что сравнение не должно быть метафорой». Затем она продолжает:
«Ритуал возвращения красоты не просто перекликается с традиционными религиями и культами, а функционально вытесняют их. Они в буквальном смысле воссоздают из старых верований новую веру, буквально заимствуют опробованные приемы мистификации и мысленного контроля с целью изменить сознание женщин так же широко, как при обращении в христианство в прошлом».
В таких отрывках автор «Мифа о красоте» оказывается человеком, поднимающим ложную тревогу: на этот раз, говорит неистовый курсив, тревога действительно всамделишная, уже не ложная, уже не метафора.
Стремление Вулф к превращению фигурального в буквальное подтолкнуло язык ее феминизма к переломной точке. Находясь в ней, чем больше Вулф настаивает на нефигуральной сути своих высказываний, тем больше она привлекает внимание к их риторическому статусу. Чем больше ее слова ускользают из-под контроля, тем громче она должна их выкрикивать.
Поэтому крайне важно, что единственный образ, на котором Вулф не настаивает, — это образ заговора. «Миф о красоте» начинается с эпиграфа, взятого у Энн Джонс:
«Я замечаю, что сейчас модно… отрицать любые представления о заговоре мужчин, причастном к угнетению женщин…»
«В свою очередь, — должна сказать вместе с Уильямом Ллойдом Гаррисоном, — я не готова признать эту философию. Я верю, что грех есть, а значит есть и грешник; что есть кража, а значит есть и вор; что есть рабство,