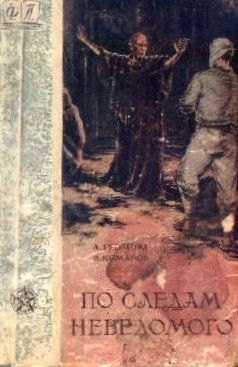Кжишов — небольшое селение на линии нашей артиллерийской позиции с постоянно меняющимся составом резервных частей. Еду вдвоём с Болконским в сопровождении фельдшера Тарасенкова и Ханова.
Сегодня весь день гремит канонада. Чем дальше от Шинвальда, тем сильнее грохот орудий. Стреляют беглым огнём. Выстрелы все чаще и чаще, удар за ударом. Гремя и бешено нарастая, канонада становится сплошным, неумолкающим гулом. Грохот орудий сливается с треском шрапнелей. Кажется, где-то высоко в облаках перекинут огромный мост из пустых деревянных бочек. Гремя железными латами, мчатся тысячи всадников по мосту и отрывисто хлопают стальными бичами. И на каждый удар копытом, на каждый взмах стального бича со всех сторон откликаются металлическим грохотом стальные трещотки.
Кучером у нас пожилой солдат с русой окладистой бородой, недавно переведённый из глубокого тыла. Он оторопело поводит головой через каждые две минуты беспомощно повторяет:
— Господи, Господи, да что это такое?..
И, сняв папаху, усиленно крестится.
По пути — следы шагнувшей войны: перебитые снарядами деревья, сожжённые избы, изувеченные окопами поля, ободранные австрийские ранцы, почерневшие от грязи конские трупы, цинковые коробки из-под патронов...
В Кжишове, несмотря на несмолкающий грохот орудий, все снова пахнет жильём и крепкими человеческими корнями. Мужики ковыряются в навозе. Во дворах суетливо и шумно гомозятся детишки. У каждой хаты — вызывающе выставленные круглые груди лукаво улыбающихся баб.
Остановились в здании школы. Хозяйка — строгая монахиня-законница с чёрной повязкой на голове и синими умными глазами. Тут же артиллерийский прапорщик Кромсаков, какой-то заезжий есаул и два прапорщика Херсонского полка. Один — угрюмый, как Ханов, с безнадёжным жестом повторяющий каждую минуту:
— Мне что? Я человек конченный...
Другой — по фамилии Криштофович — нервный, размашистый, с лицом удивительной красоты. Узкая каштановая бородка, волнистые волосы и сверкающие иронической усмешкой выпуклые глаза.
Все они лениво валяются на койках, курят, скучают и нетерпеливо поглядывают на часы в ожидании обеда.
Развёртываю свою походную амбулаторию. Робко входят местные жители с неизменными жалобами на глову и бжух (голову и живот). Вваливаются в полушубках солдаты с категорическими требованиями «доверия» (Доверов порошок) — от кашля, и рюмки очищенной — от ломоты. Витиеватый фельдшер Тарасенков, по обыкновению, суетится и путает:
— Так что дозвольте доложить, ваше высокородие! Как говорится, извините за выражение, ошибка вышла: заместо салицилки гопекан[25] отпустил.
Скучное однообразие этой процедуры неожиданно нарушается появлением колоритной фигуры чубатого рослого казака.
— На причинном месте неладно.
— Раздевайся.
Плотная шанкерная язва с огромными железистыми пакетами в обоих пахах.
— У девки был? — спрашиваю я больше для порядка.
— Никак нет... Не с девкой, а с барышней гулял... В шляпке! — не без достоинства объявляет казак.
— Ну вот, от неё ты и заразился: сифилис у тебя.
— Да что ты, ваше благородие? Окрестись! Шутишь ты, что ли?..
— Нет, казак, не шучу. Лечиться надо.
Казак свирепо ворочает глазами:
— Ну, попадись мне, гнида... Как вошь расщавлю! — И, приведя в порядок свой туалет, бросает с негодованием по адресу «нерадивого начальства: — И для ча заразу такую на фронт пущать? Собрать бы их всех да расчекалить! Чего с такими сыропиться?..
— И тебя, значит, расстрелять?
— Меня? — с изумлением пялит глаза казак. — За что?
— Ведь и ты — сифилитик.
— Да что ты, ваше благородие? С умом? Разве ж можно казака до девки равнять?!
* * *
Сумерки. Мрачный Ханов отводит душу в пессимистических пророчествах. Законница вяжет чулок, а Ханов развёртывает перед ней картину грядущих бедствий, уготованных русскими войсками Галиции.
— Теперь, — говорит он своим скрипучим голосом, — прошли те народы, что к вам поближе. Эти прогнали вас до Кракова. На той неделе татары тронулись — за две тыщи вёрст отсюда. А потом Сибирь пойдёт — за сорок тысяч вёрст. Сибирь больше всей России. Опуда как посыпятся поезда, так от вашей Галиции клочка не останется: все съедят.
Монахиня безропотно слушает и из вежливости вставляет:
— В Сибири зимно (холодно)?
— В Сибири? — оживляется Ханов. — В Сибири такие холода, что здешнему человеку ни одного часу не вытерпеть: околеет! Здесь что за холода? — презрительно машет он рукавом. — Там по сто человек в день замерзает. Бывает так, что по триста человек в одну кучу смерзают, и их, как лёд, колют!..
— Наше вам с кисточкой! — шумно влетает прапорщик Кромсаков.
— С пальцем девять, с огурцом восемнадцать! — в тон откликается Болконский. — С наблюдательного, Петруша?
— Так точно. Ни одного разрыва!
— Да ну? — удивляются офицеры.
— Вот задави меня бубон! Не рвётся наша шрапнель. Солдаты говорят — липовая. Вместо пороха кашей набивают.
— Бывает, — говорит лениво Болконский. — У нас все липовое: и цари, и святые, и штабы...
— Так точно, — смеётся Кромсаков. — И жены липовые. К подпоручику Пышкину жена в гости приехала, а спит с ней командир батареи. Солдаты говорят — в ускоренное производство попала: была подпоручиком, а теперь сразу подполковником...
— Сказать по совести, — протянул задумчиво Криштофович, — все мы какие-то липовые, бесчувственные... Живём, как в тумане... По приказу стреляем, по приказу вшей в окопах плодим... Для чего воюем — не знаем... Ни о чем не думаем...
— И без того ясно... Тявкай да чавкай — чего тут думать? — говорит равнодушно есаул.
— А другие думают... Солдаты — те крепко думают.
— Сказал! Дубовая голова, — хохочет есаул. — Сидит в окопе, курком пощёлкивает и бормочет, как идиот: «Що це за вийна? Сала немае... Хлиб з песком... Хвельдфебель бьэться... Спати не дають... А вин усе лизе, трясця його матери. Що замёрзнешь у циеи ями...»
— Эх, вы, ротозеи! В солдатской башке котлом кипит... Вот у нас в Херсонском полку забавная историйка вышла. Лишилась восьмая рота кухни. Кашевар в тумане дороги не разобрал — и прямо к австрийцам в лапы. Полковой командир — в дивизию. А там обозлились и отказались дать другую кухню. «Пускай, — говорят, — посылают к австрийцам за обедом».
— Ну и что же? — любопытствует есаул.
— Ночью всем полком в атаку пошли... До резервов пробились и австрийскую кухню в роту приволокли.
— Без командиров? — удивляется есаул.
— В том-то и загвоздка! С фельдфебелями да взводными. Как у них такое придумалось, когда всем полком сговаривались, — никто не видел...
— Ладно! — срывается Болконский. — Той не блукае, хто писни спивае...
Широко и грустно несётся бархатный голос, вплетаясь в мягко трепещущие сумерки:
Что ж, братцы, затянемте песню,
Забудем лихую беду...
Ум, видно, такая невзгода
Написана нам на роду...
К Болконскому присоединяется Кромсаков, потом казачий есаул, прапорщик Криштофович и даже его мрачный товарищ. Спели «Колодников», спели несколько украинских песен.
— А я вот новую песню знаю, — радостно вспомнил Криштофович. — Под Козювкой когда стояли, четвёртая рота принесла. Красиво поют её херсонцы... Ну-ка, за мною разом:
Я ранен, товарищ, шинель расстегни мне,
Подсумок скорее сними...
Дай вольно вздохнуть и в последний разочек
Ты крепче меня обними.
Не в силах я дальше, изранены ноги...
Горячая пуля, как жало, впилась!..
Кровавым туманом закрылись дороги,
И по небу кровью заря разлилась...
Да где ж ты, товарищ? Тебя уж не вижу...
Ты крест, что жена навязала, сними.
И, если не ляжешь со мною ты рядом,
Смотри, — повидайся с детьми.
Жену не увидишь — недавно зарыли!
Остались сиротки одни.
Скажи им, чтоб знали... чтоб знали всю правду
Про муку про нашу они.
Скажи им: отец на далёких Карпатах
Засеял не мало земли...
И севом богатым в карпатскую землю
Солдатские кости легли.
Костями да громом, да гневом безмерным
Засеял и кровью полил.
И в час свой предсмертный, о вас вспоминая,
Он с верой в посев свой почил...
И если отец не собрал урожая,
Скажи им — пусть знают и ждут,
Что мёртвые кости с далёкого края
Домой за ответом придут...
Штаб нашей бригады все ещё в Шинвальде. Кажется, солдаты второго парка заявили жалобу Базунову на жестокое обращение Старосельского. Но последний по-прежнему безжалостно прижимает и команду и офицеров. Капитан Старосельский, командир второго парка, невысокого роста, плотный, широкоплечий, с бритой головой, небольшими зелёными глазами под тяжёлыми веками, твёрдо и с убеждением отвечает на все протесты.
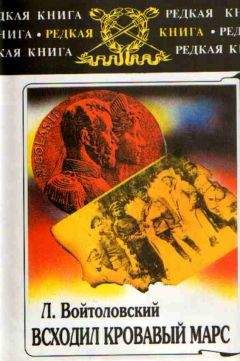

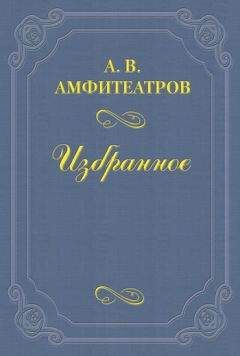
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)