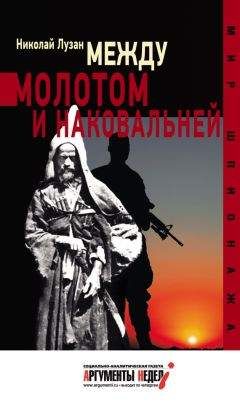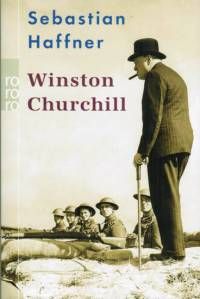— Наверное, — согласилась Ира. — И, если бы не мужество ребят, я не знаю… Нет, они не упрекали нас, а когда подступала смерть…
Она осеклась, ее глаза затуманились, и я услышал тронувшую меня до глубины души исповедь-рассказ:
— Его привезли на рассвете. Старенькая «нива», на которой, казалось, не осталось живого места, каким-то чудом добралась до полевого госпиталя, затерявшегося в горах. Два усталых и запыленных бойца бережно вынесли и положили на траву завернутое в одеяло тело. В слабом свете керосиновой лампы бледным, бескровным пятном отсвечивало лицо, и лишь по слабому трепету ресниц можно было понять, что жизнь еще не оставила его.
На шум голосов из палатки вышел Даур — хирург, воспаленными от бессонницы глазами посмотрел на бойцов, раненого и устало сказал: «Немедленно в операционную!»
Ребята подняли товарища, внесли под навес и положили на обрызганный кровью кухонный стол, отошли в угол и без сил рухнули на лавку. Борясь со сном, они не спускали с нас глаз. Даур нахмурился, но ничего не сказал. Сколько этих молящих, наполненных болью и живущих робкой надеждой взглядов пришлось вынести ему и нам. Они заставляли забывать об усталости, о крови, текущей по твоим рукам, не слышать пилы, вгрызающейся в плоть и кость. Мы жили только одним — вырвать у смерти еще одну человеческую жизнь.
Началась операция, фитилек в лампе задрожал и стал гаснуть — в керосине оказалась вода. Анетта тут же зажгла другую и подвесила на крюк под потолком. Вторая операционная сестра пододвинула табурет с кухонным подносом, на котором лежал скудный инструмент. Сейчас это может показаться невероятным, но тогда мы были рады альпинистскому ледорубу, принесенному ребятами с турбазы на Ауадхаре, ножовке по металлу и бинтам из нижнего белья.
Каждое слово Ирины было наполнено болью, но она продолжала свой рассказ:
— Мы лихорадочно спешили в этой гонке со смертью, кромсая ножницами и ножом заскорузлые, пропитанные кровью и гноем повязки. Даур заскрипел зубами от горечи, и было от чего: раны оказались ужасны, обе голени превратились в сплошное кровавое месиво, а таз и позвоночник раздробили осколки. Гангрена синюшными пятнами расползлась по ногам, надежды на спасение уже не оставалось, но мы продолжали бороться за жизнь.
Санитары телами прижали руки и ноги раненого к столу, Даур разжал ножом зубы, и чача обожгла гортань едва дышащего человека. Он судорожно закашлял и открыл глаза, губы силились что-то произнести, но с них слетал еле слышный шелест. Его взгляд остановился на мне, пальцы тронули и затем сжали мою руку. И потом, когда Даур осколок за осколком извлекал из истерзанного тела, а острые зубцы пилы кромсали кость, мы были вместе, и это давало ему силы вынести нечеловеческие страдания и невыносимую боль.
Давно был потерян счет времени в этой схватке со смертью. Солнце встало из-за гор, потухли фитили в керосинке. Вместе с ними угасала и надежда на спасение, гангрена довершала свое страшное дело. Он умирал, гримаса боли покинула лицо, ставшие огромными глаза, в которых плескалась неземная тоска, не отпускали меня, слабеющая рука продолжала бережно удерживать мою. Собрав остатки сил, он прошептал: «Как холодно. Не отпускай меня туда…»
В этот последний миг он не думал о боли и смерти. И потом еще долго трепетное тепло его ладони жило во мне. Оно согревало и поддерживало в самые трудные и роковые минуты, спасало и очищало от мерзости и грязи войны.
Дружный и заразительный смех прервал рассказ Ирины. У подъезда больницы шла веселая возня. Женщины, подхватив смущенного и робко сопротивлявшегося водителя, усадили в стоматологическое кресло. Над его головой со зверским выражением лица воинственно крутил рычагом бормашины здоровенный детина, а юркий юноша энергично щелкал фотоаппаратом. Оттуда, где резвилась эта куча-мала, нам что-то кричали и махали руками. Улыбка тронула губы Ирины, и облачко грусти сошло с лица. Она озорно подмигнула, в ней снова проснулся задорный мальчишка-сорванец, и, бросив на ходу:
— До встречи у Володи! — Ирина присоединилась к ним.
На следующий день в фотостудии Попова я с волнением ждал ее в надежде на скорую встречу с Майей и Тали. Людской круговорот ни на минуту не замирал в небольшом и по— домашнему уютном зале. На помосте в свете ярких ламп две актрисы из филармонии весело пикировались между собой и кокетливо поглядывали на мужчин. Володя, молча поигрывая желваками на скулах, в который раз вынужден был перетаскивать треногу с фотоаппаратом. В углу, дожидаясь своей очереди, три долговязых школьника, смущаясь, примеряли отцовский пиджак. За журнальным столиком пили чай и листали фотоальбом журналисты из редакции «Нужной газеты».
В очередной раз хлопнула входная дверь, и в студию вошли те, кого я с таким нетерпением ожидал. За спиной Ирины скромно держалась худощавая стройная девушка. Она не бросалась в глаза яркой красотой, которой с такой щедростью природа юга одаривала здесь женщин.
— Майя! — представила спутницу Ирина.
В свете бра трепетное лицо девушки сразу приковало к себе внимание. В огромных распахнутых глазах отражалась вся ее душа, искренняя и открытая. Быстрым взглядом она прошлась по мне, остановилась на фотографии, которую я держал в руке, и беспокойный огонек погас в ее глазах.
— Одна из лучших работ Володи, — оценила она мой выбор.
На фоне изуродованного пожаром здания Совмина пробуждалась новая жизнь. Радостные и счастливые улыбки озаряли лица юных танцоров и певцов. Их простенькие костюмы нежными красками альпийских цветов украшали скромную сцену. Польщенный такой оценкой Майи, я достал из альбома еще несколько фотографий и положил на стол. Ира предложила присесть, мы заняли свободные стулья и продолжили обсуждение достоинств этих работ.
Здесь уже Майя, словно опасаясь потревожить трагическое прошлое, робко открыла свою папку, и на стол легли фотографии, отснятые во время войны.
Среди них находились разные снимки: простые черно-белые и сочные цветные, четкие и размытые. При всей расхожести их объединяло одно общее — они не оставляли равнодушным. Жестокий лик войны был схвачен и передан Майей с поразительной точностью и правдивостью…
Безмерное горе овладело бойцом. Еще не остывший после боя автомат выпал из рук, плечи бессильно обвисли, а глаза потухли. Тонкая струйка крови сочится из раны на голове, заливает щеку и темным пятном расплывается на куртке, но он не чувствует этого, душевная боль опустошила его.
— Несколько минут назад погиб родной брат! — пояснила Майя.
Черные клубы дыма поднимаются над крышей. Пышущие нестерпимым жаром языки пламени вырываются из окон здания. В воздухе, подобно подраненным птицам, кружат обгоревшие листы бумаги. Перед подъездом фигуры в камуфляжной форме, перепоясанные пулеметными лентами, швыряют в костер древние рукописи и книги.
…Что это?! Фашистская Германия 1930-х годов?! Увы, нет — это Абхазия в конце XX столетия.
— Варвары! Уничтожают государственный архив Абхазии, — с презрением произнесла Майя.
Грудами искореженного бетона и металла, скорбными могилами проходили перед глазами эти успевшие пожелтеть и выцвести от времени бесстрастные свидетели минувшего лихолетья. Иногда среди них попадались фотографии, запечатлевшие редкие на войне минуты радости и торжества.
— Война — это тоже жизнь. Даже в ней есть место для любви, и это чувство согрето особым теплом и имеет необыкновенную чистоту. Жестокое горнило войны очищает ее от всякой накипи и фальши, — просто и буднично сказала Майя.
— Ты там, как на ладони, — согласилась Ирина.
— И все-таки война — это прежде всего боль и страдание, — заключила Майя и положила передо мной очередную фотографию.
Исхудавшие восковые лица детей и подростков, на которых, казалось, остались одни только глаза, печально смотрели с нее.
Где, когда я мог видеть их?! Память подсказала страшные картины из далекого прошлого: Саласпилс, Минское и Варшавское гетто — фашистские лагеря для детей!
— Блокадный Ткуарчал — это наш Ленинград, — скорбно обронила Майя.
— Там люди такого натерпелись… — больше у Ирины не нашлось слов.
— Об этом надо всегда помнить и говорить! — сурово заметила Майя.
Вслед за этим я услышал еще один рассказ о том трагическом времени.
— Прошло больше двух месяцев, как кольцо блокады замкнулось вокруг Ткуарчала — этого города шахтеров. В нем жили в основном русские и украинцы, так что пусть Шеварднадзе не врет, будто воевал против «абхазских сепаратистов», — напомнила Майя и вернулась к своим воспоминаниям: — Стылый декабрьский ветер по-волчьи завывал в развалинах разбомбленного еще во время первого авианалета железнодорожного вокзала, разбойничьи посвистывал в прострелянных трубах обогатительной фабрики, шершавым и колючим языком поземки хлестал по лицам редких прохожих, сквозь щели и трещины забирался в дома и высасывал последние капли тепла. Город, а вместе с ним и люди медленно умирали от холода и голода. Первыми жертвами становились дети и старики, с каждым днем росло их число, а единственная дорога из этого ада пролегала через небо.