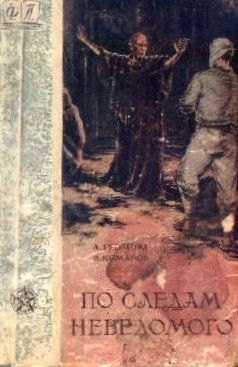Противно и омерзительно то, что обе стороны правы. Правда разоряемых баб и правда разоряющих войск сплелась в один проклятый клубок, срослась и скипелась, как вонючий польский колтун этих гнилых лесов и болот. Воющая баба и разоряющий солдат, постоянно враждующие между собой и постоянно шагающие бок о бок, — вот два неотделимых и непримиримых контраста, из которых сплетается война.
Баба рожает, работает, одевает, копит. Каждое собранное бабой зерно, каждая сотканная нитка, каждый приём, сберегающий бабью силу, ведут к накоплению человеческого труда и человеческих дарований и умножают досуг, уют и богатства, необходимые для процветания всего человеческого рода.
Солдат умерщвляет, разоряет, оголяет и жжёт. Ни к человеческому труду, ни к человеческим дарованиям, ни к человеческой мудрости не прибавляет он ни единого зёрнышка. От культуры, от радостей жизни, от уюта и красоты он возвращается к первобытной палатке кочевника, к скучной, безрадостной казарме. Победитель — он живёт чужим, уворованным благополучием. Побеждённый — он грабит ещё слабейших. Но убивая, сжигая и уничтожая, он, служитель смерти, заставляет рабски служить себе и гений и труд. Солдат насилует бабу. В этом и заключается вся противоестественная природа войны.
* * *
Грозная, страшная, истребительная война со всеми своими пушками, газами и летательными машинами родилась из противоестественного слияния науки с деспотизмом. Каждый шаг на войне представляет собой сочетание точно проверенных научных законов с железной розгой тюремного застенка. Своими завоевательными успехами война целиком обязана науке и технике. Но вследствие того истребительного, умерщвляющего начала, которое носит в себе война, чем сложнее технические усовершенствования войны, тем убыточнее её победы. Война всегда бесчестный и расточительный грабёж, но, чем победоноснее армия, тем разорительнее она для государства. В этом и заключается самопожирающая сила милитаризма. Банкир, отдающий свои капиталы на поддержание «динамитной науки», становится на путь самогильотинирования — на путь величайшего разорения, не возместимого ни посредством контрибуции, ни посредством грабежа оккупированных народов.
Я знаю, что средних путей война не знает. Либо с воющей бабой, либо с мёртвой солдатчиной. И надо сказать открыто, что, живя в мечтах своей уединённой жизнью, я на деле — такой же вор и грабитель, как Гридин, Звегинцев и Старосельский. Вот отчего мне не хочется уходить из этой тесной палатки, где пахнет свежей травой и можно сделать вид, что не слышишь, как воют бонахские бабы.
...Обедаем молча на земле. Жарко, душно. Грохочут пушки.
— Может быть, и Румыния и Греция уже воюют, а мы ничего не знаем.
— И знать ничего не будем.
— Одичаем скоро, как наши хозяева.
— Попросить разве немцев, чтоб с аэропланов нам газеты бросали?..
— Много вы узнаете из газет...
И опять все покорно жуют и апатично прислушиваются к грохотанию пушек.
Минутами кажется, что вот-вот все встанут на дыбы и начнут вопить, и проклинать, и кусаться. Но человек со всем примиряется, а всего легче — с собственным разложением.
...Приехал ординарец Отрюхов, сообщивший новость:
— Наступление отменили, а над Белгораем летал ероплан, а на ем флаки каки-то: белый, жёлтый и красный.
— Что ж это за флаги?
— Говорят, на Аршаву опять идти хочет. А может, к миру. Белый флак — мириться хочет с Россией.
— А другие флаги к чему?
— Рассее — белый: на замирение. Англии — красный: значит, не на живот, а на смерть. Франция — жёлтый: и так и этак.
— Болтай чего, — смеются солдаты.
— Не своё рассказываю, — обижается Отрюхов. — Листы такие разбрасывал с ероплана.
Часа через два приехал адъютант из штаба корпуса.
— Что нового? — набросились на него.
— Решительно ничего.
— А что это за пальба была ночью?
— Подготовка к наступлению.
— Наступление? Какие же результаты?
— Наступления не было. Со слов инспектора артиллерии знаю, что сперва был отдан приказ: всей третьей армии перейти в наступление. С обеих сторон развили сильный огонь. Австрийцы не ожидали с нашей стороны такого нажима и понемногу начали подаваться назад. Но в два часа ночи получилась телеграмма от верховного главнокомандующего: отойти в исходное положение и прочно окопаться.
— Чем объясняют в корпусе такое распоряжение?
— Говорят, что собираются дать бой под Варшавой.
— Под Варшавой? Не под Перемышлем ли?
— Не могу вам сказать, не знаю.
— А откуда у нас снаряды?
— Снарядов нет. В том-то и вся беда. В четырнадцатом корпусе некомплект в пятнадцать тысяч шрапнелей. В других корпусах не лучше.
* * *
Получено странное официальное сообщение из ставки, сплошь посвящённое описанию германских траншей на западном фронте. Офицеры недоумевают:
— К чему это?
— По-моему, — высказывает предположение Болконский, — это похоже на подготовку к каким-то совсем неожиданным шагам. Мы к таким откровенностям не привыкли.
— Что же вы предполагаете?
— А черт их знает. Только здесь каждая фраза орёт благим матом: караул! Немцы непобедимы!
В конце сообщения скромно добавлено: «Противник уже обстреливает форты Перемышля».
— Значит, Перемышль уже пал, — умозаключает Болконский.
— Чепуха! — беспечно заявляет Костров. — Варшавы не взяли и Перемышля не возьмут.
* * *
Отступаем на Гуциско.
...Остановились на фольварке пана Павловского. Хозяин — весьма разговорчивый поляк лет пятидесяти. Спрашиваю:
— Пхел и плюсквов нима[41]?..
Отвечает с изысканной иронией по-русски:
— Если вы в своих зарядных ящиках не привезли, то ручаюсь...
Комнаты светлые, большие. Стены увешаны героическими портретами. Сигизмунд III, Сапега, Костюшко, Ян Собесский.
— Кто это? — интересуются офицеры.
— Славные вояки. Законные дети славы. Было время, панове, когда и Польша умела держать в руках боевой меч...
— Было, да сплыло, — заметил Старосельский. Хозяин усмехнулся:
— Все, панове, сходит на нет. Рим был — сошёл. Польша была — сошла. Россия какая большая — и тоже может сойти...
— В какой мы губернии? — сухо осведомляется Старосельский.
— В Люблинской.
— А не в Холмской?
— Э, вы уже хотите устроить пятый раздел Польши? Довольно с нас четырёх.
— А четвёртый — это какой?
— Как же: разделение Люблинской губернии на Люблинскую и Холмскую. Мои владения как раз находятся в двух верстах от Холма и в двадцати шагах от Австрии.
— Граница где?
— Вон тот лес есть граница. Там моё поле кончается.
— Пане, что нового? — спрашивает адъютант.
— Вы лучше знаете.
— А пантофлёва почта что сообщает?
— Пантофлёва почта — наилучшая почта. Только за неё можно в Сибирь прогуляться. Под конец дней не хотелось бы...
— Не бойтесь. Говорите, что знаете.
— Вас я не боюсь. Вы человек правдивый «от цалаго сердца». Это по глазам видно. Но сказать — не скажу.
— И о Перемышле не скажете?
— Раз вы сами знаете...
— Знать-то знаем. Но какие форты заняты?..
— Восемь фортов. И я думаю, что теперь вас за Сан заманивают[42]...
Пан Павловский неотступно ходит за нами по пятам. Он очень словоохотлив. Любит пошутить. И чрезвычайно интересуется нашими дальнейшими планами. Иногда он ядовито подтрунивает над Россией.
— Что вы нас караулите? — говорит Старосельский.
— Я долго жил как отшельник. Я да сын. Жены у меня нет. Старая бабушка тоже умерла. Теперь я единственный человек во всем Божьем мире... Ну, мне приятно побывать в обществе людей, имеющих дело с лошадьми. Это мне напоминает то время, когда я тоже держал в руке хлыст...
— Что-то вы очень много разговариваете, — роняет сквозь зубы Старосельский.
— Хорошие вы люди, господа офицеры. Дай вам Бог, чтобы вы сто лет жили. Как у нас говорят: сто лят, сто хат, злата бечка, сын и цуречка... И чтобы германцев прогнали. Но ещё лучше было бы, если бы вы лошадей не пасли на моих лугах. Вы уйдёте, а нам голодать придётся.
— Пустяки. Урожай соберёте.
— Ой, нет. Жито совсем плохое. Сеяли когда? Когда вы ушли за границу. Перед самой зимой. Пахали как попало. Остаётся только добровольцем в армию записаться. Знаете, — сказал он, лукаво прищурив глаз, — я бы продал все имение, внёс бы тысячу рублей на Красный Крест, только бы мне предоставили место командира парка.
— Командира парка? Разве в парке так хорошо служить?
— О, я насмотрелся на парковых командиров. Есть, конечно, единичные чудаки, которые за все, что берут, платят. Но другие приходят и говорят солдатам: «Позаботьтесь о лошадях!..»
Тут проходил такой. Его фамилия Капчук. Я записал его фамилию себе на память. После войны я напечатаю. Не только я, мы все опубликуем... Было у меня и клевера и овса вволю. Он все забрал. Двое суток кормил четыреста лошадей. Потом позвал меня: «Вы хозяин?» — «Моё шанованье пану. Я хозяин». — «Ваш клевер?» — «Был мой. Вы взяли». — «Сколько вам?» — «Вам лучше знать, сколько съедают ваши лошади. У меня в каждой вязанке по сто фунтов. Будем считать по сорок». — «Что там считать! Получите 25 рублей». — «Это вы мне на чай даёте? Двадцать пять рублей за двести пудов клевера?» — «Не угодно? «Не надо».
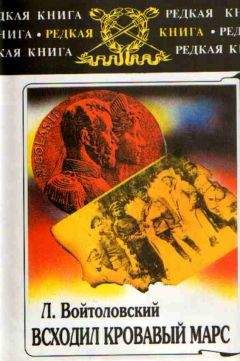

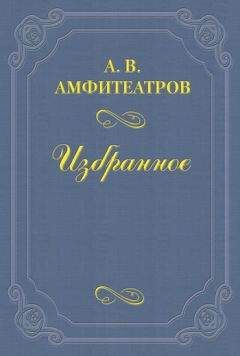
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)